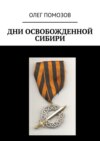Читать книгу: «Дни освобожденной Сибири», страница 4
Завершилось заседание перевыборами исполнительных органов городской Думы. «Омский вестник» (№124 за 1918 г.) писал по этому поводу: на заседании Томской городской думы 1 июня была избрана новая городская управа в следующем составе: городской голова И. П. Пучков (эсер), товарищ городского головы Н. С. Васильев (меньшевик) и члены управы: от фракции эсеров П. Г. Лихачёв, от кадетов К. В. Игумнов и П. И. Троицкий, от национальной группы П. В. Соколов, от домовладельцев Г. И. Ливен.
Согласно постановлению Западно-Сибирского комиссариата, как мы уже отмечали, из состава всех органов местного самоуправления полностью исключались большевики и левые эсеры, не избежала подобной люстрации и Томская городская дума. Как сообщала газета «Сибирская жизнь» (№62 за 1918 г.) она поредела сразу на 33 депутата*. Вместо них в число гласных были кооптированы представители победивших в ходе восстания партий. От правых эсеров – 11 человек (в том числе почему-то один из четырех комиссаров Западной Сибири – Павел Михайлов), 8 – человек от кадетской партии (в том числе некто В. Н. Кононов, возможно родственник будущего начальника штаба создаваемого в те дни Томской добровольческой дивизии), 5 – от союза домовладельцев, 3 – от меньшевиков (в том числе будущий заместитель министра внутренних дел Временного Сибирского правительства А. А. Грацианов, политик определённо правых взглядов), 2 – от трудовой народно-социалистической партии (в том числе В. Я. Нагнибеда, очень близкий к левым), 2 – от томских мусульман, один человек (некто
А. И. Ривво) – от городской еврейской общины и столько же от союза служащих. Таким образом, места большевиков умеренно левые и правые разделили между собой почти поровну.
В тот же день, 1 июня, первой на освобождённых территориях, возобновила свою работу и Томская губернская земская управа, разогнанная большевиками 27 марта 1918 г. Управа собралась практически в полном составе: председатель Н. В. Ульянов и члены – В. П. Денисов, М. П. Рудаков, Ю. Р. Саиев, А. М. Богуславский. Валериан Денисов – меньшевик, остальные четверо – правые эсеры. Сама управа, а также многочисленные служащие этого учреждения в последующие дни разместились, как и прежде, в здании бывшего губернского управления на площади Революции (Новособорной). Здесь ежедневно по рабочим дням с 10 до 11 утра члены управы вели приём граждан. Михаил Рудаков в качестве исполняющего обязанности председателя** стал заведовать инструкторским, финисовым, промышленным и сельскохозяйственными отделами. Валериан Денисов курировал народное образование, библиотеки, больницы и приюты, Юсуф Саиев руководил административным, юридическим и воинским отделами, а также курировал милицию. Богуславскому поручено было контролировать работу типографий, страхового дела и бухгалтерского учёта.
_______________
*33 гласных от большевиков, т.е. почти половина из всего состава Думы, были избраны осенью 1917 г., незадолго до Октябрьской революции, и это в Томске – далеко не самом пролетарском городе Сибири.
**Председатель управы тридцатисемилетний эсер Николай Ульянов, юрист по профессии, 2-го июня распоряжением ЗСК был назначен одним из комиссаров Томской губернии.
Одной из важнейших стала работа инструкторского отдела, 6 июня решено было «восстановить инструкторский отдел, организовать кадры инструкторов для посылки в волости и селения с целью восстановления земских самоуправлений». С 11 июня, снабженные пропагандистской литературой, инструкторы стали направляться в различные районы Томской губернии. Накануне отправки, 10 июня, состоялось общее собрание командируемых, где они получили наказ губземуправы «не покидать волости, пока не убедятся в том, что идея земских самоуправлений привита более или менее основательно». Были определены и более конкретные задачи: «осведомлять население о происходящем перевороте», «восстанавливать волостные земские самоуправления, организовывать на местах народную охрану», информировать губернское земство о положении в деревне, агитировать за создание добровольческой армии, подготавливая почву для деятельности военных инструкторов, осуществляющих запись добровольцев в армию. Штат инструкторов был невелик, поэтому губземуправа разрешала совмещение обязанностей гражданских и военных инструкторов. К 17 июня уже во все уезды Томской губернии были отправлены такого рода специалисты; по сообщению «Народной газеты» Томская губземуправа разослала по губернии в июне 1918 г. около 200 инструкторов.
Как мы видим, инструкторские отделы создавались весьма поспешно, поэтому подбор кадров осуществлялся не всегда качественно. Так помимо студентов и служащих, туда, например, поступали на службу бывшие полицейские, военные и т.п., то есть люди, зачастую не имевшие ни малейшего представления о той «земской идее», которую они должны были «прививать» населению. Инструкторами они становились, надо полагать, не по зову сердца, а по чисто меркантильно-житейским соображениям. Минимальный суточный оклад такого работника, по данным газеты «Омский вестник» (№119 от 16 июня 1918 г.), составлял 10 рублей (около 1000 на наши деньги), плюс к этому выезжавшему в командировку агитатору оплачивали все его путевые издержки.
Томская уездная земская управа (избранная 13 декабря 1917 г. и через несколько месяцев разогнанная большевиками) также возобновила свою деятельность 1 июня под руководством заместителя председателя меньшевика Б. В. Тихомирова. Сам же председатель правый эсер Василий
Сидоров, работал тот момент, как мы уже отмечали, в составе Западно-Сибирского комиссариата.
Ну и, наконец, в тот же самый день (последними по счёту, но не по значению, как говорят англичане) собрались на своё совещание и члены городского биржевого сообщества. Собрание прошло под председательством Василия Петровича Вытнова, бывшего полковника царской армии, инженера по своей гражданской специальности, представителя среднего поколения одного из богатейших семейств Томска. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой содержался призыв к единению всех антибольшевистских сил, к «прекращению межпартийных дрязг в интересах спасения государства». Также одной из важнейших тем этого и нескольких последующих заседаний «профсоюза» торгово-промышленников стал, разумеется, финансовый вопрос («Сибирская речь», №22 от 23 июня 1918 г.).
Дело в том, что Городская дума в первые же дни своей работы обратилась к биржевикам с убедительной просьбой о кредите в размере трёх миллионов рублей. Торгово-промышленники, посовещавшись, решили удовлетворить запрос, но так как их собственные дела за период полугодового правления большевиков пришли в полный упадок, они, во-первых, направили запрос членам Западно-Сибирского комиссариата, по поводу экспроприированного у них советской властью имущества, а, во-вторых, попросили разрешения воспользоваться той наличностью, что осталась от конфискованных у них средств и хранилась на счетах городского отделения Госбанка. Обе эти просьбы комиссары ЗСК пообещали, по-возможности, удовлетворить, но лишь по возможности. Так уже через несколько дней, не дожидаясь распоряжений Временного Сибирского правительства, губернский комиссариат (о нём см. чуть ниже) провёл денационализацию ряда томских аптек, вернув их старым владельцам. Что же касается банковских средств, то здесь вообще никаких заминок не произошло, и вскоре вся конфискованная советской властью наличность (два миллиона рублей) была переведена на счета городского биржевого комитета.
После этого, чтобы уже совсем никому не было обидно, биржевики где-то раздобыли списки тех лиц, которых большевики в марте-апреле освободили от уплаты совдеповской контрибуции*, и обязали уклонистов также внести причитавшуюся с них сумму в общий фонд «ликвидации большевизма и содействия властям в создании порядка и безопасности в крае». Таким образом, вскоре набралась необходимая наличность в размере трёх миллионов рублей, которую торгово-промышленники пообещали выделить городской управе в качестве кредита, но с условием, что в городе снимут все красные стяги и транспаранты, в том числе даже те, которые вывесили эсеры и меньшевики в знак своего возвращения к власти. Условие было с трудом, но всё-таки принято, и вскоре на административных зданиях города остались только бело-зелёные флаги сибирских областников.
_______________
*Одним из них оказался П. И. Макушин, известный в Сибири книготорговец и просветитель, открывший на собственные средства первую бесплатную публичную библиотеку в России (!) и Народный университет в Томске. Учитывая эти заслуги перед обществом, большевики полностью освободили Петра Ивановича от уплаты денежной контрибуции.
На основании распоряжения ЗСК о временных органах революционной власти в Томске с 12-го июня приступил к выполнению своих обязанностей губернский комиссариат в составе трёх лиц: меньшевика Александра Грацианова и эсеров – Фаддея Башмачникова и Николая Ульянова. Местные кадеты, собравшиеся 5-го июня на своё партийное собрание, были несколько раздосадованы, что никого из них не пригласили в губернские комиссары. Однако, учитывая, то обстоятельство, что умудрённый жизненным опытом пятидесятитрёхлетний Александр Грацианов только формально числился меньшевиком, а на самом деле, как мы уже отмечали, являлся человеком несомненно правых политических взглядов*, несколько успокоило кадетов, и они вполне удовлетворились вышеизложенным фактом, осознавая также и то, что власть революционных комиссаров являлась временной и, по всей видимости, совсем недолгой. Прогноз оказался абсолютно верным, и, забегая немного вперёд, мы можем констатировать следующий факт: если в июне Томский губернский комиссариат работал как триумвират круглого стола, то уже в начале июля он стал переходить под единоначалие Александра Грацианова. Николай Ульянов в этой ситуации толи сам перевёлся, толи его перевели, на прежнее место работы в губернскую управу («Народная газета», Томск, №6 от 4 июля 1918 г.), а Фаддей Башмачников занял официальную должность заместителя томского губернского комиссара, но тоже ненадолго. Пришедший же в ноябре к власти в Сибири А. В. Колчак вообще ликвидировал этот институт исполнительной власти, заменив комиссаров на управляющих, которых он назначал лично сам.
_______________
*К тому же за Александра Алексеевича при его назначении на должность губернского комиссара очень активно похлопотали люди из ближайшего окружения Григория Потанина, то есть ведущие сибирские областники. Грацианов, кстати, до Февральской революции занимался частной врачебной практикой, причём настолько успешной, что стал очень состоятельным человеком и построил на улице Офицерской (теперь Белинского) роскошный деревянный особняк с великолепными резными узорами-оберегами на фасаде. Сейчас в этом одном из красивейших зданий Томска размещается гостевая приёная губернатора области.
Решением губернского комиссариата уже в ближайшие после переворота дни возобновили своё издание две ведущих томских газеты: «Сибирская жизнь» (официальный печатный орган сибирских областников-автономистов), закрытая большевиками в январе текущего года в ходе мероприятий по разгону Сибирской областной думы, и «Голос народа» (главный рупор губернского комитета партии социалистов-революционеров), также закрытый распоряжением советской власти, но только немного позже, в марте 1918 г., после того как эсеровские боевики попались на краже винтовок с одного их военных складов. Издательство «Сибирской жизни»
вновь въехало в своё родное здание на пересечении улицы Дворянской (теперь Гагарина) и Ямского переулка (сейчас Нахановича), на вполне законных основаниях выселив оттуда «Знамя революции» – официальный печатный орган социал-демократической партии, но фактически находившийся под патронажем большевиков и оттого размещённый ими несколько месяцев назад в лучших производственных помещениях одной из ведущих сибирских газет*. После того, как большевики сбежали, «Знамени революции» пришлось переселяться в Дом профсоюзов, теперь из «отдельного кабинета» поближе, что называется, к массам.
_______________
*Теперь на стенах этого здания висят мемориальные доски в память о двух главных редакторах: А. В. Адрианове («Сибирская жизнь») и В. Д. Вегмане («Знамя революции»), когда-то непримиримых политических противников, близкого к правым народного социалиста и коммуниста, русского и еврея, коренного сибиряка и пришлого ссыльного из Одессы, национально-патриотически настроенного консерватора и либерала левого толка. Души их и им подобных непримиримых, как представляется, вряд ли до сих пор упокоились с миром, и там, где-то на небесах, они, возможно, по-прежнему ведут свою идеологическую борьбу, которая вряд ли когда-нибудь закончится, пока есть такие широкораспространённые социальные антогонизмы, как бедные и богатые, счастливые и обездоленные и т. п. Чья-то мудрая голова развела две мемориальные доски по разным сторонам «угла на Патриарших», вот только почему-то Александр Адрианов «висит» на переулке Исайи Нахановича, а Вениамин Вегман – на улице Юрия Гагарина.
Дом профсоюзов, где собирались на свои собрания члены руководства профессиональных объединений города, новые власти поначалу не тронули, хотя бывшие арендаторы этого здания, так называемого Гоголевского дома, одна из томских гимназий и музей, с первых же дней после изгнания большевиков стали настаивать на том, чтобы им вернули потерянные в ходе двух русских революций помещения. Неподалёку от Дома профсоюзов, на базарной площади (теперь площадь имени Ленина) во втором белом корпусе, в бывшем магазине Второва, расположился в те дни комиссариат труда. По его распоряжению в Доме свободы (бывшем губернаторском доме) была устроена биржа труда для безработных. Так что хотя левые силы и согласились убрать все красные флаги с башен, но далеко ещё не капитулировали.
Известный томский поэт Сергей Недолин опубликовал в одном из июньских номеров «Народной газеты» своё стихотворение под названием «Гимн свободной Сибири», оно было посвящено Григорию Николаевичу Потанину, сибирскому Томасу Джефферсону. «Народная газета» являлась официальным печатным органом новых губернских властей, и «Гимн», надо полагать, стал своего рода их программным манифестом:
Да здравствует наша родная Сибирь,
Честь всем за неё пострадавшим!
Да здравствует весь наш народ богатырь,
Оковы навеки порвавший!
Под благостным солнцем желанных свобод,
Пусть распрей исчезнут годины.
Хозяин Сибири – великий народ,
Иного в ней нет властелина.
Да, здравствует Родина наша – Сибирь
В объятьях Руси неделимой,
Пусть будет её безграничная ширь
Счастливой и Богом хранимой!
5. Назначения на военные должности
Из обращения к населению членов Западно-Сибирского комиссариата 31 мая явствовало, что важнейшие военные должности в пределах Томска и Томской губернии заняли следующие офицеры: командующим войсками Томского района стал капитан Л. Д. Василенко, один из ближайших помощни-ков А. Н. Гришина-Алмазова в период подготовки антисоветского мятежа, на-чальником городского гарнизона был назначен полковник Н. Н. Сумароков, а военным комендантом – полковник Е. К. Вишневский, в должность начальника штаба гарнизона вступил подполковник А. Н. Пепеляев. Все эти люди до недавнего времени руководили подпольными офицерскими группами городского сопротивления и теперь на вполне законных основаниях встали во главе теперь уже абсолютно легальных вооруженных формирований Временного правительства Сибири.
Ведомство полковника Вишневского, напомним, разместилось в Доме Свободы, а полковник Сумароков со своими штабными структурами расположился в гостинице «Европа». Именно здесь началось формирование первых боевых частей Томской добровольческой дивизии, впоследствии вошедшей в состав Средне-Сибирского корпуса Западно-Сибирской (потом Сибирской) армии. Недостатка в кадрах на первых порах не было, к вечеру 31 мая, когда в город вступил чешский отряд, его уже встречали 500 вооруженных томских добровольцев. Оставленного большевиками оружия на городских складах тоже вроде бы хватало. Убежавшие советские, правда, сумели забрать с собой практически все пулемёты, зато оставили почти всю артиллерию. Для тяжелых и громоздких орудий на двух пароходах красной флотилии места просто не нашлось, поэтому томские большевики вынуждены были удовлетвориться лишь двумя пушками, размещёнными ещё 29 мая, в период боёв за город, на одной из барж, стоявших в устье реки Ушайки. Эту баржу потом прицепили к одному из пароходов и потащили за собой, тем, собственно, и удовлетворившись. Что же касается остальных орудий, то с них совдепщики поснимали замки, хотели забрать их с собой, да в спешке забыли в одном из кабинетов исполкома, так что почти вся артиллерия в целости и сохранности сразу же досталось сибирским добровольцам.
Всё, как мы видим, шло, в общем-то, достаточно хорошо, но вдруг 4 июня случилась очень большая неприятность, со своей должности был снят полковник Сумароков и назначен скромным инспектором артиллерии, той самой, кстати, что досталась белым в наследство от томских большевиков. Формально он числился как бы заместителем сначала командира дивизии, а потом и корпуса, но фактически стал исполнять обязанности обыкновенного интенданта, то есть тылового чиновника по снабжению. Другой бы на его месте не сильно огорчился, некоторые особо «одарённые» службисты с большим трудом, за взятки и унизительное низкопоклонство годами добивались таких доходных мест, но Николай Николаевич Сумароков был заслуженным боевым офицером, поэтому лично его такое назначение однозначно оскорбило.
Что же послужило поводом к опале? По словам капитана Василенко, появление полковника в городе в первые часы после победы мятежа в золотых имперских погонах бывшей царской армии чрезвычайно возмутило представителей новых демократических властей и прежде всего членов Западно-Сибирского комиссариата, которые, пользуясь представившимся вскоре случаем, настояли на том, чтобы немедленно снять Сумарокова с должности начальника городского гарнизона. По имеющимся в некоторых источниках сведениям, командующий Западно-Сибирским военным округом полковник Гришин-Алмазов 3 июня прибыл из Новониколаевска в Томск с докладом к уполномоченным Временного Сибирского правительства и здесь получил от них прямые указания по поводу впавшего в немилость строптивого офицера.
Николай Николаевич пытался защищаться, направил 12 июня письмо в адрес командующего округом с просьбой перевести его на какую-нибудь должность в строевую службу, но не тут-то было. Его реляция осталась без ответа, более того, как только полковник Сумароков в середине следующего месяца прибыл из тылового Томска в находившийся на передовой линии фронта Иркутск, по делам службы, его тот час же завернули назад и перевели на ещё более незначительную должность инспектора химической комиссии. Такого рода армейских структур и в помине не было тогда в Сибирской армии, их, кажется, только ещё предстояло создать, так что Сумароков, по сути, оказался военачальником без войска. Вконец обидевшись на подобного рода притеснения, Николай Николаевич отказался с того момента подчиняться каким-либо приказам, но в Томск всё-таки уехал. После этого начальник штаба Сибирской армии пригрозил отдать взбунтовавшегося полковника под суд военного трибунала за неподчинение, в ответ Сумароков просто взял и послал начштаба Белова (Виттенкопфа), а также самого командарма Гришина-Алмазова, что называется, куда подальше. На этом, собственно, вся история и закончилась, поскольку вскоре всем стало не до опального полковника. Более подробно о всех перипетиях сумароковского дела можно узнать из томской газеты «Понедельник» (за 9 января 1919 г.).
Освободившуюся должность начальника войск томского гарнизона 4 июня 1918 г. занял подполковник Анатолий Николаевич Пепеляев, герой (Георгиевский кавалер) Первой мировой войны, родной брат видного столичного деятеля кадетской партии Виктора Николаевича Пепеляева. Герою подполковнику поручили продолжить формирование Томской добровольческой дивизии, а потом назначили её командиром. На ключевых постах дивизии по-прежнему, как и при Сумарокове, остались члены внепартийной, т.е. офицерской подпольной организации. Так что, по-сути, с заменой Николая Сумарокова на Анатолия Пепеляева ничего такого особенного как бы не произошло, кроме того, что Томская дивизия, а потом и Средне-Сибирский корпус приобрели замечательного командира и очень талантливого молодого полководца.
6. Формирование добровольческих частей
В Томске было сформировано четыре стрелковых полка, командирами которых стали: первого – подполковник П. И. Иванов, второго – полковник Е. К. Вишневский, возглавлявший в период подготовки мятежа один из лучших отрядов офицерской подпольной организации*, третьего – полковник А. Г. Укке-Уговец, четвёртого – штабс-капитан Н. Ф. Шнапперман, находившийся до недавнего времени во главе организационного отдела той же нелегальной офицерской организации. Начальником штаба дивизии назначили капитана К. Л. Кононова**, руководившего в подполье отделом связи. Кавалерийский дивизион поручено было сформировать, а потом и возглавить атаману Енисейского казачьего войска, двадцатисемилетнему правому эсеру Александру Сотникову. В январе текущего года он уже пытался организовать вооруженный антибольшевистский мятеж на территории Енисейской губернии, но неудачно, долгое время скрывался после этого, а незадолго до описываемых событий нелегально прибыл в Томск.
_______________
*В томском подполье весной 1918 г. существовало, как минимум, две нелегальных боевых организации (одна эсеровская, а другая офицерская), контактировавших между собой, но имевших отдельные организационные структуры. Обе организации формально подчинялись при этом единому политическому руководству в лице ведущих западно-сибирских функционеров от эсеровской партии, имевших выход на находившихся в харбинской эмиграции министров Временного правительства автономной Сибири.
**В ряде работ особенно раннего постсоветского периода в должности начальника штаба фигурирует капитан Жданов, что, по-всей видимости, неверно.
Студентов медиков власти призывали записываться добровольцами в санитарные части Западно-Сибирской армии, запись осуществлялась в гостинице «Европа». Здесь же в комнате №34 производился приём в томский партизанский отряд Всероссийского союза защиты Родины. Партизанскими в то время назывались мобильные (или как тогда говорили – летучие) отряды разведчиков, выполнявших дерзкие боевые вылазки в зону расположения
войск противника. Понятно, что для такого рода военных операций нужны были люди специально подготовленные, а их не всегда хватало. Впрочем, и обычных добровольцев, пригодных к элементарной строевой службе, тоже имелось не в избытке. Для агитации, направленной на привлечение военнослужащих в ряды Западно-Сибирской армии, использовались все средства. К народной войне призывали томичей и листовками, и агитационными плакатами, и многочисленными объявлениями в газетах, и даже духовенство во время воскресных проповедей, глаголя о делах не только духовных, но и мирских, агитировало своих прихожан поскорее взять в руки оружие. Но даже этого казалось недостаточно, поэтому в один из ближайших выходных дней в городском театре состоялось собрание общественности, где с призывом вступать в ряды Томской добровольческой дивизии к населению обратились представители нового гражданского и военного руководства.
Буржуазию призывали оказывать вспомоществования нарождавшейся Сибирской армии. Многие откликались, причём это делали не только самые богатые жители города, некоторые из которых значительно умножили свои состояния на военных поставках в период Первой мировой войны, но и простые и даже малообеспеченные граждане, отдававшие, порой, далеко не лишние для них деньги, а женщины (не все, конечно) жертвовали на эти цели самые доргие для себя предметы обихода – свои украшения. И средства, таким образом, были собраны немалые, надо полагать.
Однако развёрнутую, то есть полностью укомплектованную дивизию томичам сформировать так и не удалось. И хотя в ней и числилось целых четыре стрелковых полка, а также артиллерийский и кавалерийский дивизионы, на самом деле батальоны по численности вряд ли достигали полноценной роты, а вся Томская дивизия едва-едва дотягивала до настоящего фронтового полка. Впрочем, так было не только в Томске, а и в других сибирских городах. Большую часть личного состава в этих подразделениях составляли офицеры; командных должностей на всех, по понятным причинам, не хватало, поэтому очень часто поручики, а иногда и капитаны и даже старшие офицеры служили просто рядовыми солдатами.
Вышедшая из подполья эсеровская боевая организация также, уже в первые дни после победы вооруженного мятежа, начала формировать свои добровольческие дружины. Здесь необходимо заметить, что эсерствующие офицеры, как правило, это были молодые командиры до 30 лет, в большей своей части сразу же вступили добровольцами в состав строевых частей Томской дивизии. Другие же подпольщики, те, что были из числа гражданских лиц, собственно и начали формировать дружины народного ополчения. Для организации последних уже вечером 31 мая в помещение губернской организации ПСР (на Почтамтской-28) попросили прибыть так называемых десятников, бывших командиров подпольных групп, сюда же пригласили явиться и зарегистрироваться «всех стоящих на защите Учредительного Собрания и местного самоуправления».
В городском комитете партии меньшевиков, располагавшемся на Почтамтской-9, также ежедневно производилась запись добровольцев в дружину самообороны для предупреждения, как было сказано в газетном объявлении, «погромных и монархических выступлений».
Данные ополченческие дружины состояли главным образом из студентов и гимназистов старших классов, а также из представителей трудовой интеллигенции, служащих, инженеров, преподавателей и т. п. Они в основном осуществляли функции охраны различного рода административных зданий и учреждений. Колонны эсеровско-меньшевистских дружинников ходили по городу с красными повязками на рукавах, а иногда и в сопровождении духового оркестра, исполнявшего Марсельезу – любимый революционный гимн всех левых партий. Ещё одной отличительной особенностью этих дружин было то, что его военнослужащие по условиям набора в революционные отряды не могли привлекаться для производства политических обысков и арестов.
Кроме того отдельно формировалась дружина, состоявшая, так скажем, из внепартийных ополченцев, набиравшихся в охранные отряды не по идейным соображениям, а за плату в размере от 60 до 160 рублей в месяц (что-то около, соответственно, 6 и 16 тысяч рублей на наши деньги). Запись в эту дружину производилась в здании бывшего гарнизонного совета, располагавшегося напротив главного корпуса университета, а совещания с представителями их штаба проводил в Доме свободы комендант города полковник Евгений Кондратьевич Вишневский.
Все эти добровольческие дружины имели целый ряд недостатков, главным из которых была очень низкая дисциплина среди личного состава. Дружинники никак не могли до конца усвоить необходимые правила обращения с оружием и элементарные уставные нормы, в том числе такой осоновопологающий пустулат воинской службы как беспрекословное выполнение приказа вышестоящего начальника. Они довольно часто просили разъяснить им целесообразность того или иного распоряжения, порой даже настаивая на том, чтобы приказы отдавались не в виде распоряжения, а посредством просьбы. Отношение к оружию также было среди добровольцев не самое лучшее, они его то таскали целыми днями с собой и даже, порой, домой уходили с винтовками или, наоборот, иногда бросали их где попало и потом долго искали. Что же касается боевого применения оружия, то если кому-то раньше и приходилось раз или два стрелять, то это было уже хорошо, некоторые из дружинников даже заряжать винтовки толком не умели. Проку от таких ополченцев было не очень много, поэтому эсеровско-меньшевистские отряды, именно под этим предлогом, стали постепенно разоружать и распускать, так что ни одного из них в Томске к концу лета уже не осталось. В других же сибирских городах это произошло даже раньше.
7. Жертвы большевиков
1 июня на противоположном от города берегу реки Томи были найдены истерзанные тела двух бывших подпольщиков поручика Сергея Кондратьевича Прохорова-Кондакова и священника Николая Златомрежева. Оба героя были казнены по скорому приговору бежавших большевиков, при этом тела их, как признала экспертиза, подвергались сильным истязаниям во время допросов. У Прохорова-Кондакова, который тяжелораненым попал в плен во время боёв 29 мая, были даже выколоты глаза. Во время Первой мировой войны студентом 4-го курса университета его мобилизовали в армию и определили на службу в 39-й запасной полк, дислоцировавшийся в Томске. Уволенный в запас по мобилизации, и, не желая мириться с всевластием большевиков, он сразу же вступил в подпольную антисоветскую организацию. В воскресенье 2 июня в городском кафедральном соборе состоялось публичное отпевание поручика С. К. Про-хорова-Кондакова, а потом – его похороны на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, элитного для светских лиц некрополя Томска.
Тело Николая Златомрежева предали земле несколько позже, поскольку следственный комитет, созданный новой властью, в течение нескольких недель проводил расследование обстоятельств его гибели*. Его отпели и похоронили 25 июня на кладбище Алексеевского мужского монастыря. На крышке его гроба во время церемонии прощания лежали ручные кандалы, в которых Златомрежева и нашли уже мёртвым. Двадцатишестилетний Николай Златомрежев являлся участником Первой мировой войны, имел звание прапорщика (по другим сведения – поручика). В 1916 г. после тяжелого ранения в голову он был демобилизован и стал священником Преображенской церкви в Томске. С церковной кафедры, как отмечали его современники, он первым из священнслужителей города начал проповедовать идеи социальной справедливости и защиты прав человека, а при большевиках неоднократно задерживался уже за антисоветскую пропаганду. 24 мая 1918 г. Николай Златомрежев участвовал в боевой стычке с красногвардецами на территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря. За это 28 мая он был арестован советскими властями и незадолго до бегства красных из города расстрелян. Николая Златомрежева похоронили как православного новомученика, погибшего в борьбе за благополучие и счастье родного отечества и своей малой родины.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе