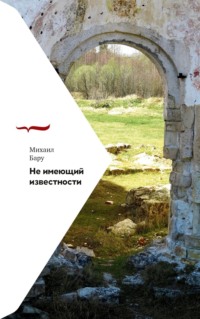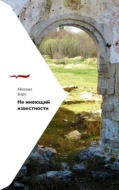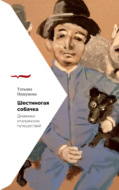Читать книгу: «Не имеющий известности», страница 2
Бесова деревня
Следующая осада Опочки случилась через шестьдесят два года – в 1502-м. Пскову, поскольку он был союзником Москвы, пришлось воевать и с Литвой, и с Ливонским орденом. Как написано в Псковской первой летописи, «того же времени Немцы с Литвою совокупишася, и быти было им вместе подо Псковом, и пан Черняк не поспел, под Опочкою услышил, что Немцы выжгли Остров, а Литва мало не взяли Опочки, святый Спас ублюде». Хотя и мало, но не взяли, а потому литовские войска не успели до прибытия помощи Пскову из Москвы соединиться с немцами, и задержала их Опочка, ставшая для Литвы и Ордена тем гвоздем, которого не было в кузнице. И все же округу неприятель разорил, убил шесть человек опочецких бортников и посевы потоптал. Немцы, как отмечает летопись, еще и «сено косиша». Еще бы мышей из погребов с собой забрали, псы-рыцари…
Прошло еще пятнадцать лет, и 20 сентября 1517 года под стенами Опочки не опять, а снова появился неприятель. На сей раз это были… опять литовцы, да еще и с поляками, во главе с князем Константином Острожским, и было их общим числом десять тысяч. В Разрядной книге 1475–1605 годов по этому поводу имеется запись: «7026-го году в сентебре преступил король литовский кресное целованья, и помыслом злым по опасным грамотам умысля, и пришел в Полотеск со всеми своими людьми и, умысля с воеводы со князь Костентином Острожским и з желныри6, пришли ко псковскому пригородку к Опочке с норядом и к городу Опочке приступали». Злых умыслов у них было не так много, и они были простыми – взять штурмом Опочку, потом двинуться на Псков и взять его, а уж там как повезет. Грабежи мирного населения, убийства и захват пленных, само собой, в планах тоже были. В войске Острожского имелись, как сообщает Псковская первая летопись, не только литовцы и поляки7, но и «многих земель люди», среди которых числились и чехи, и венгры, и немцы, и сербы, и татары, и валахи, и мазовшане, и моравы. Были наемники и «от цысыря Максимьяна короля Римского». В летописи о них написано: «люди мудрые, ротмистры, арахтыктаны, аристотели»8.
Мудрые люди, оценив диспозицию, поняли, что осада крепости простой не будет. Поляки называли Опочку «свиным корытом». Действительно, крепость, расположенная на плоском холме, напоминала перевернутое корыто. Эпитет «свиное» оставим на совести осаждавших. С другой стороны – как еще им называть крепость, о которую они обломали зубы?
Не будем, однако, забегать вперед. Артиллерийские батареи с проломными пушками пришлось располагать на другом берегу реки Великой, а это как минимум две сотни метров, да еще стрелять пришлось под максимальным углом возвышения, поскольку и сам холм, как мы помним, был высоким, да еще и стены, да еще и земля внутри стен, в которой застревали пушечные ядра, да еще и сами пушки, которые тогда были куда слабее нынешних, да еще и пушек было недостаточно и подавить батареи на городских валах неприятель не смог.
Артподготовка длилась до 6 октября, то есть две с лишним недели. Толку от нее было мало, и командиры, а ими, кроме самого главного – князя Острожского, были командиры чешских и немецких наемников польский и литовский гетманы Януш Сверчовский и Юрий Радзивилл, решили отдать приказ о штурме. Для этого всю ночь перед штурмом через реку на плотах и лодках под стены крепости переправлялась пехота и закреплялась на плацдармах. На рассвете 6 октября штурм начался. Как сказано в Степенной книге: «Нощию же и лествицы ко граду поставиша. На утрия же бестудно приступи ко граду бесчисленное множество…» Первыми стали карабкаться на холм по приставным лестницам опытнейшие чешские наемники. Карабкались они под прикрытием щитов. Щит, конечно, неплохая защита против стрелы или удара мечом, но когда сверху на тебя летят пудовые камни, падают огромные деревянные колоды и катятся толстые бревна, сметающие все на своем пути, то никакие щиты не помогут. Они и не помогли. Результатом первого дня штурма было шесть десятков убитых и 1400 раненых. Сейчас-то этим раненым диагнозы ставить поздно, но скорее всего это были переломы и черепно-мозговые травмы. Предводителю чешских наемников по прозвищу Сокол и вовсе оторвало руку.
В одном из ранних списков Холмогорской летописи о первом дне штурма написано: «А воевода и наместник Опоцкой Василей Михайлович Салтыков со всеми людьми градцки, богу помогающу, боряхуся против королева войска крепко. И на приступе ис пушек и ис пищалей и катки болшии и слоны с города побиша многое множество людей королева войска, яко Великую реку от всех стран запрудиша трупы люцкими, и кровью река яко быстрыми струями протече». Катки – это куски бревен, а слоны – колоды, которые выдвигали на длинных шестах над нападающими и рубили удерживающие их веревки.
Что касается камней, то с ними, как гласит легенда, описанная в Степенной книге, произошла удивительная история. После первого штурма запас камней в крепости подошел к концу. Копать землю в поисках камней осажденным было некогда, да и какие можно найти камни на рукотворном холме. Тут можно было бы и приуныть, но… ночью, во сне, одной женщине явился святой Сергий Чудотворец, указавший место, в котором находился тайник с камнями. Не просто тайник, а тайник с огромным количеством камней. О сне или видении было немедля доложено воеводе Василию Салтыкову, и, как только противник вновь пошел на приступ, его забросали камнями, найденными в погребе, а когда объединенные силы интервентов ушли из-под стен Опочки, в крепости немедля построили церковь во имя святого Сергия Радонежского9.
Надо сказать, что поляки, литовцы и нанятые ими кондотьеры ушли не сразу. Более того, они, может, и вовсе не уходили бы, кабы не начались боевые действия у них в тылу. В Великих Луках стояли приграничные войска под командой князя Ростовского. Оттуда отправили два отряда под командой так называемых легких воевод – князя Федора Оболенского-Телепнева по прозвищу Лопата и Ивана Ляцкого. Легких, потому что эти отряды были хотя и малочисленными, но исключительно подвижными. Они нападали на войско Острожского сзади и мгновенно отходили, забирая с собой пленных. Все шедшие навстречу Острожскому подкрепления эти воеводы перехватили и разбили.
Безуспешные попытки взять Опочку продолжались две недели – с 6 по 18 октября. К этому времени армия Острожского сильно поредела. Поздняя осень в средней полосе не лучшее время для боевых действий. Острожскому повезло – у него не было танков, а только осадная артиллерия, но и пушки вытаскивать из непролазной грязи удовольствия мало. С началом распутицы осада была снята, и все оставшееся войско Острожский повел в Полоцк. Стенобитные орудия бросили, и они достались опочанам.
Пришло время преуменьшать собственные потери и преувеличивать потери противника. Если судить по русским дипломатическим источникам, то во время осады было убито шесть тысяч человек, а в ходе рейдов по тылам противника уничтожили еще четырнадцать тысяч. Посольству в Крым передали цифру поменьше – всего двенадцать тысяч, не считая, конечно, еще шести тысяч убитых при осаде. И это при том, что войско Острожского не превышало десяти тысяч. Поляки же писали сдержанно, точно сквозь зубы. Было дело, ходили под Опочку, города хотя и не взяли, но все вокруг разорили и пожгли. Без ущерба для себя, конечно. Знаем мы, как без ущерба для себя…
Три года спустя после осады некий Некрас Харламов, сообщая кому следует о бежавшем из польского плена Тимохе Рупосове, пишет, что этого самого Тимоху, по его словам, в плену «вспрашивал король про Опочку, которой деи город боле, Луки ли или Опочка? И Тимоха ему отвечал: как, господине, у села деревня, так и у Лук Опочки малое городишко; а Луки город великой. И король де молвит: бесова деревня Опочка. И Копоть писарь Тимохе говорил: того для тебя король о Опочке вспрашивал, что болши пяти тысяч людей под нею легло». Проговорился Сигизмунд – «бесова деревня», а никак не «свиное корыто». Короля можно понять – не один город ему пришлось заложить, чтобы насобирать денег на этот поход. Пропали королевские денежки. Под стенами Опочки и пропали.
Через одиннадцать дней, после того как то, что осталось от войска Острожского, отступило в Полоцк, великий князь Василий Третий принял литовских послов. К тому моменту те уже три недели дожидались аудиенции. Литовские послы, скорее всего ничего не знавшие о неудачной осаде Опочки, пытались вести переговоры с позиции силы, но… Как писал в своих записках Сигизмунд Герберштейн, бывший посредником на этих переговорах: «После того как войско польского короля ничего не добилось под Опочкой, – а рассчитывалось, что если эта крепость будет захвачена, то можно будет достичь более выгодного мира, – великий князь сделался высокомерен, не захотел принять мира на равных условиях, так что литовцы вынуждены были уехать ни с чем»10. Вот, собственно, и все об обороне Опочки в 1517 году. Остается только добавить, что перед лестницей в городском парке, ведущей на вершину холма, на котором стояла средневековая крепость, по решению городских властей установлен памятный знак, а на памятном знаке есть надпись: «В 1517 году на этом месте русский гарнизон, возглавляемый воеводой Василием Салтыковым-Морозовым, наголову разбил польско-литовских захватчиков». И в скобках приписано: «Битва при Опочке». Нет, наголову не разбивал, хотя головы проломили многим и битвы не было, а была осада, если уж быть точными, но… такую надпись захотел сделать один из городских начальников. Захотел и утвердил, хотя краеведы и говорили ему, говорили… и перестали говорить. Туристам, само собой, битва интереснее, чем осада, а уж когда наголову разбил…
И вот еще что. В середине XVI века Опочка появилась на европейской карте Каспара Вопелиуса – известного немецкого картографа и изготовителя глобусов. Неплохой результат для крепости, гарнизон которой в те времена составлял около полутора сотен человек.
Через семнадцать лет после обороны Опочки окольничий Иван Ляцкий, назначенный вторым воеводой сторожевого полка в Коломне, бежал к польскому королю Сигизмунду вместе с боярином князем Семеном Бельским. Там и прожил до самой смерти еще восемнадцать лет. Принят был королем благосклонно и облагодетельствован земельными пожалованиями. На основании данных Ляцкого картограф Антон Вид составил подробную карту Московии. Хорошая была карта, и названия русских областей и городов на ней были очень точными. Опочка (Opotzki) на ней тоже есть. Антон Вид сам признавался, что «немалое содействие» в создании карты ему оказал Иван Ляцкий, окольничий великого князя Московского. Ляцкий по настоянию Сигизмунда Герберштейна составил описание Московии, которым и пользовался Антон Вид при составлении своей карты.
Между прочим, Каспар Вопелиус, на карте которого тоже отмечена Опочка, пользовался в своей работе картой Антона Вида. Карта Вопелиуса появилась в 1555 году, а Ляцкий послал Герберштейну, с которым состоял в переписке, свою карту уже в 1541 году. Вот и выходит, что Опочка впервые появилась на карте Европы благодаря Ивану Ляцкому, который сначала помог разбить поляков и литовцев, а потом к ним убежал. Вряд ли мог он забыть про события 1517 года, пусть и через семнадцать лет. К истории самой Опочки, впрочем, этот факт если и имеет отношение, то очень отдаленное.
Дальше наступают темные годы. Не в смысле беспросветные, хотя и таких у нас больше, чем хотелось бы, а в смысле малоизученные краеведами и историками. Нет, конечно, какие-то документы вроде зарплатной ведомости стрельцов, накладных на порох, ядра и уздечки или объяснительной записки, куда пропали дубовые бревна, припасенные для ремонта крепостной стены, находили и находят, но их мало, и потому приходится себе эту жизнь воображать.
Безусловно, первые годы после осады Опочка зализывала раны и праздновала победу. Без устали ходили крестные ходы с простреленной супостатами иконой Всемилостивого Спаса, устраивались торжественные гарнизонные смотры и соревнования по стрельбе из пищалей на приз воеводы Салтыкова-Морозова, ходили вокруг холма, на котором стояла крепость, с песнями под барабанный бой и жалейку, кричали «Рады стараться» или что-нибудь оглушительно-радостное и нечленораздельное, потом шли в местные кабаки пить опочецкое светлое пиво или брагу, потом дрались стенка на стенку до крови. Строили храмы. Посадские сажали лук, горох и капусту в своих огородах, по осени в этой капусте находили детишек, на заливных лугах сеяли овес, ходили с рогатиной на медведя, голыми руками ловили в Великой пудовых щук и осетров, которых тогда в ней водилось видимо-невидимо. Хотя насчет детишек в капусте… это вряд ли. В этих краях и сейчас много аистов, а в те времена их было не меньше, чем щук и осетров. Значит, и с детьми никаких перебоев не было. Скорее всего, капусту растили исключительно для еды.
Через сорок семь лет после того, как Опочка выдержала осаду польско-литовского войска под командой Константина Острожского, весной 1562 года, к ней подступил неприятель. На сей раз это были… снова литовцы. Псковская третья летопись по этому поводу сообщает: «…Того же лета приходили литовские люди воевати по Николине дни, на седьмои недели по Пасце, к Опочке, и хотели посад зажечи, и гражане не дали зажечи посаду, за надолбами отбилися; и многых от них постреляли з города; и они та же Литва воевали по волостям, и семь волостей вывоевали…» Семь волостей вывоевали, но Опочка им снова оказалась не по зубам. Мало того, теперь даже к стенам литовцев не подпустили и не дали зажечь посад. Он был огорожен надолбами – вкопанными в землю заостренными бревнами. Вкапывали их наклонно – остриями к нападающим.
И двадцати лет не прошло, как в 1581 году польский король Стефан Баторий, а по совместительству и великий князь Литовский… на Опочку не пошел, а сразу двинулся на Псков, и город оказался во вражеском тылу. Н. М. Карамзин вместе с другим историком, митрополитом Евгением Болховитиновым, считали, что Баторий Опочку взял, но в Псковской летописи об этом нет ни слова, ни полслова. Молчат об этом и польские источники, а уж они-то о взятии Опочки раструбили бы на всю Европу. Мало того, секретарь Батория ксендз Пиотровский писал в дневнике в конце октября 1581 года: «В лесах около Опочки хватают наших курьеров, и проезд в тех местах очень опасен».
«Дворы черные пустые и места порожжие»
К середине восьмидесятых годов XVI века относится первое описание Опочки. Находится это описание в «Подлинной писцовой книге» за номером 535 и составлено писцами Григорием Дровниным и Иваном Мещаниновым-Морозовым.
«…Город Опочка на Великой реке на острову древян, а в нем двор наместнич да двор воевоцкой. Внутри ж города места осадные детей боярских и городовых прикасщиков…» Осадные места были, прямо скажем, очень маленькими – три на две сажени или двадцать семь квадратных метров прописью. Немногим больше площади современных комнат в однокомнатных квартирах, но без каких-либо удобств. И на этой площади нужно было поставить дом, выкопать выгребную яму и посадить хотя бы одну грядку лука с чесноком, которыми закусывать и лечиться от всех болезней. О капусте и говорить нечего. С другой стороны – жили там люди военные. Выбирать им не приходилось. С третьей стороны, если вспомнить размеры самой крепости, то и такая площадь покажется немаленькой. Это был так называемый Верхний город, который тоже делился на две части – возвышенную на востоке и пониженную на западе и юге. Все это напоминало деление пятака на грош и алтын, но в верхней части Верхнего города жило городское начальство, и там осадные места были побольше – четыре или даже шесть саженей в длину, но в ширину все равно две.
Несмотря на почти игрушечные размеры домов, да и самой крепости, была в Опочке Большая Спасская улица, шедшая вокруг холма от Малых ворот к главным, Большим. Возле Больших ворот была устроена площадь, в центре которой стояла колокольня и соборная церковь Святого Спаса, и потому Большие ворота называли еще и Спасскими. На площади каким-то образом помещалась еще одна церковь – Преподобного Сергия Радонежского и два двора – Наместничий и Воеводский. Кроме Большой Спасской улицы, в Верхнем городе имелись еще две – Сергиевская и Петровская. Петровская улица начиналась в нижней части Верхнего города и шла по южному краю… Все это сложно представить себе без карты, а потому мы не будем останавливаться на всех этих картографических и геодезических подробностях, а скажем только, что на Петровской улице, у церкви Святого Петра была площадь, на которой гарнизон занимался строевой и боевой подготовкой, хотя… вряд ли строевой. Ей до Петра уделяли мало внимания. Там же происходили воинские сборы в случае осад и походов и собирались граждане Опочки на общественные собрания. На площадь выходили ворота порохового погреба, перед которыми стояла сторожевая изба, а точнее сторожка. На внутренних сторонах городских валов теснились клети, то есть кладовки и погреба пушкарей, воротников, стрельцов, попов, церковных дьячков, пономарей, кузнецов, шорников и дворников. Впрочем, с дворниками я погорячился – вряд ли они там были. Лучше заменим их плотниками. В городе существовала и богадельня, поскольку в описании упоминается клеть старца «багаделные избы». Видимо, стариков в богадельне было несколько, поскольку в другом месте Подлинной писцовой книги читаем: «На островку на Великой реке огород богадельных старцев». Островок этот расположен аккурат напротив входа в нынешний отель «Опочка», и огородов на нем теперь никаких нет, а только непроходимые заросли крапивы, лопухов и осоки, среди которых то тут, то там виднеются рыбаки, уставшие отвечать, что не клюет.
Упоминается в описи «подклетишко полуторы сажени вдовы Анны Гавриловской жены мелника…». Стало быть, имелся и мельник, а к нему прилагалась и мельница. Скорее всего, поставили ее где-нибудь на Великой, а не в Верхнем городе, где и без того яблоку негде было упасть. «…И всего внутри города царя и великого князя 6 житниц, онбар да погреб, да 6 мест пустых, да детей боярских, и монастырских, и церковных, и пушкарев, и воротников, и стрелцов осадных мест и клетей 137, да 197 мест пусты, а людей у них нет…», а если бы были, добавим мы, то сидеть бы им на головах друг у друга.
По правую руку от острова, на котором стоял Верхний город, находился еще один остров, отделенный от берега Великой прокопанным рвом. На этом острове располагался Нижний город, обнесенный крепостной стеной с девятью башнями, но в описываемое время он еще не существовал, а на его месте находились посады и слободы – Пушкарская, Стрелецкая, Никольская, Воронецкая, Козьмодемьянская, а в них улицы Никольская Большая, Федосова, Воротницкая, Воронецкая, Пушкарская, Жидовская11 и два переулка со смешными названиями – Пиндин и Пундин. Был еще посад на противоположной, левой стороне реки Великой, и назывался он Завеличьем. Правда, Козьмодемьянская слобода была почти пуста, на улицах Жидовской, Федосовой, в Пундине переулке «дворы черные пустые и места порожжие», лавочных мест имелось больше трех десятков, а занято было всего девятнадцать, на территории будущего Нижнего города стояло всего семь дворов и проживало в них ровно семь человек. «Слободка Никольского монастыря, что на Опочке на посаде, а в ней 17 дворов бобыльских… а живут в ней Никольские бобылки…» Оно и понятно – закончилась Ливонская война, и закончилась для России неудачно. Про то, чем закончилось для России, особенно для ее приграничных западных областей, правление Ивана Грозного, можно и не вспоминать. Опочка, конечно, врагу не сдалась, но от войны ей досталось. Потому и «дворы черные пустые и места порожжие», потому и бобылки, потому и лавочных мест куда больше лавок12.
Зализывать раны, нанесенные войной и правлением Грозного царя, Опочке было некогда – надвигалось Смутное время. Первый Самозванец прошел на Москву куда южнее Опочки, а вот второй… После разгрома правительственных войск под Болховом часть армии Василия Шуйского попала в плен, но была отпущена вторым Лжедмитрием по домам. Среди этой части были псковские стрельцы, а среди них и опочецкие. В мае 1608 года пришли они домой. Псковская летопись по этому поводу сообщает: «Пригородцкие стрельцы с псковскими… пошли на свои пригороды, на Себеж, да на Опочку, да на Красный, да на Остров, да на Избореск, и дети боярские по поместьям, и пригороды все смутили, и дети боярские и холопи их приведоша пригороды и волости к крестному целованию табарскому царю Дмитрею».
Деваться было некуда – Тушинского вора признал Псков, а Опочка… Опочка была и оставалась пригородом Пскова, который и принимал за нее решения такой важности. Кроме того, все опочецкие воеводы назначались Псковом. Как только в 1613 году Псков признал нового царя Михаила Романова, так опочецкие служилые люди в компании с себежскими казаками и под командой опочецких воевод Ивана Бороздина, Богдана Аминева и себежского стрелецкого головы Ивана Неелова 9 июля «взяша Заволочье у Лисовского и много сукон, и город сожгли, и детей боярских Андрея Квашнина и прочих прислаша во Псков, а оне служили с Олисовским вместе, и Литву побиша». Тут нужно пояснить, что Заволочье – один из псковских пригородов, расположенный неподалеку от Опочки, полковник Александр Юзеф Лисовский – один из самых активных польских, как сейчас сказали бы, полевых командиров, державший в Заволочье все награбленное, запасы оружия и снаряжения, а Андрей Квашнин – один из тех псковских помещиков, что перешли на сторону польского короля Сигизмунда. Надо сказать, что в Заволочье отсиживалось довольно много таких, как Квашнин, и находились они там вместе с семьями. В момент штурма крепости Лисовского с основными силами в ней не было – он ушел в очередной грабительский набег. Воевода Невеля, Григорий Валуев, в те поры служивший полякам, писал литовскому референдарию Гонсевскому: «Замок Заволочье взятием взяли и, взявши замок, польских и литовских и русских людей, дворян и детей боярских, и их отцов, матерей, жен и детей, и крестьян побили от мала до велика, и замок спалили». Тех, кого не убили, повели в Опочку, но, отойдя от Заволочья версты три, перебили почти всех оставшихся. Лишь немногие смогли спастись бегством и добраться до Невеля. Квашнину, стало быть, еще и повезло – его довезли живым до Пскова.
Формально на этом Смута для Опочки закончилась, но фактически… Город на русско-польской границе покоя не знал ни днем ни ночью. Правда, и по ту сторону границы никому спокойно спать не давал. В 1633 году служилые опочане отбивают у поляков Себеж, который по Деулинскому мирному соглашению достался Польше: «В то же время выбежала Литва из Себежа, и взяша Опочане Себеж, а Литву достальную побиша». Правда, на следующий год под Опочку пришли поляки и зажгли посад, но Себеж уже не вернули. Через шестнадцать лет после Деулинского мира заключили другой, Поляновский, но и его Опочка соблюдала точно так же, как и Деулинский, поскольку в ней без выходных работал сборный пункт русских войск, идущих в рейды на захваченные поляками и литовцами территории.
Еще через тридцать три года Россия и Польша заключили Андрусовское перемирие, по которому России наконец вернули Смоленск, все земли Левобережной Украины, Северскую землю и даже Киев. Об этом перемирии, наверное, не стоило бы здесь и упоминать, если бы оно не было подписано благодаря выдающемуся русскому дипломату, главе Посольского приказа и государственному канцлеру Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину – уроженцу Опочки. Можно было бы еще сказать, что под непосредственным руководством Афанасия Лаврентьевича была создана международная и регулярная русская почта, что он даже разработал форму почтовых служащих13, что по его инициативе был построен первый русский боевой корабль «Орел», что именно он придумал трехцветный российский флаг, которым позже воспользовался Петр Великий, что основал первый русский банк в Пскове, но мы этого делать не будем, поскольку к непосредственной истории Опочки это не относится, а вернемся в Опочку конца двадцатых годов XVII века.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе