Моя Франция. Обратится ли сказка в кошмар?
Текст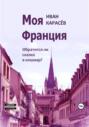


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 19,90 ₽
- Объем: 300 стр. 24 иллюстрации
- Жанр: книги о путешествиях, отдых / туризм, путеводители
Париж и такие разные парижане
Вообще-то Елисейские Поля или просто Поля, как их называют живущие в Париже наши соотечественники, ничего особенного из себя не представляют. Просто необычно широкая для Парижа улица, изобилующая шикарными магазинами и дорогими ресторанами. В окру̀ге немало фешенебельных отелей, в них останавливаются знаменитости. Побывать там хоть раз надо. Великолепна перспектива с Триумфальной Аркой и её современной сестрой – огромным, сияющим на солнце офисным комплексом в виде буквы «П» – Большой Аркой Ла Дефанс. Причём второе сооружение построено практически параллельно первому – практически, потому что полностью запараллелить не позволил грунт. Но лично для меня в этом городе есть гораздо более привлекательные места, тот же Латинский квартал, например, только если, конечно, без куч мусора. Хотя, на мой взгляд, особой архитектурной привлекательности в Париже мало. Город застроен незамысловатыми зданиями восемнадцатого, особенно девятнадцатого – начала двадцатого веков, среди которых то тут, то там встречаются «вставные челюсти» из стандартного стекла и бетона 50-80-ых годов двадцатого века. И, если в полностью перестроенных районах снесённых промзон на северо-востоке города, утыканных и вовсе только такими «памятниками архитектуры», претензий к подобному строительству нет, то посреди старых домов стеклобетон напоминает нам о том, что Париж тоже город контрастов. Правда, к счастью, в 20-м веке Париж рос за пределами периферийных бульваров, т.е. вне границ города 19-го столетия.
И всё же сравнение с Петербургом по части архитектуры, наверное, будет не в пользу Парижа. Жак Ширак назвал Петербург самым красивым городом мира. Насчёт мира не знаю, но по отношению к Парижу соглашусь. Старая часть Питера выигрывает и по разнообразию стилей, и по количеству богатых дворцов и особняков. Слабая сторона питерской архитектуры – штукатурка, которая всегда норовит отвалиться (хорошо, если не на голову) и оголить кусок здания. Париж – город камня, его штукатурить не надо, только время от времени чистить от нагара выхлопных газов и прочей грязи, что в Париже, судя по всему, делают. А вот в Берлине, например, в самом центре можно встретить совершенно почерневшие от времени каменные здания, памятники истории и культуры по совместительству. Что ж, немцы, благодаря своей «канцлерин» – щедрая нация, они деньги тратят на мигрантов, чего не скажешь о более прижимистых французах. Эти всё на себя любимых, может, потому и фасады в Париже чище, чем в Берлине. Но проигрывает Питеру Париж ещё и в части строгости законодательства в области застройки исторических кварталов. Во Франции можно купить старинное здание, довести его до аварийного состояния, а потом на вполне законных основаниях снести и воздвигнуть новый офисный/торговый центр или дорогой жилой дом. Похоже, что отсутствует, в нашем понимании, во всяком случае, и понятие зоны исторической архитектурной застройки. Как уже было сказано выше, новые высокие билдинги легко встраивается в старые кварталы, только небоскрёбы ещё не начали строить направо и налево, хотя прецеденты есть.
Наверное, такая страшная трагедия как блокада с её бомбёжками и обстрелами дала бы возможность парижским промоутерам стереть с лица земли половину французской столицы. Тамошние застройщики 40-50-ых годов, думаю, тонули в собственной слюне, рассматривая фотографии уничтоженных войной городов Европы, вот они бы развернулись в старом Париже! Но, к несчастью для них и к счастью для французской столицы, в 1940 году здесь вообще не было стрельбы, Париж объявили открытым городом, а в 1944-м дело ограничилось перестрелками отступавших немцев с поднявшими голову маки и некоторыми полицейскими, повернувшими оружие против гитлеровцев. Вторая французская бронетанковая дивизия, которой американцы позволили повернуть на столицу, лишь дала немецкому гарнизону прекрасный шанс сдаться регулярным войскам, а не макизарам. Те ведь под горячую руку ещё и шлёпнуть могли.
Дорогие англо-американские союзники также не слишком беспокоили город своими «ковровыми» бомбардировками (промпредприятия уже тогда были в основном за пределами жилой застройки). Так что Париж не смели с лица земли без разделения на кварталы, населённые людьми, и на промзоны с заводами, как поступили освободители Европы со всеми крупными немецкими агломерациями. Отдельным французским городам, впрочем, повезло гораздо меньше, чем Парижу. Кстати, почему, например, обстрел гуманитарной колонны в Сирии, при котором погибает 20 человек, должен считаться военным преступлением при наличии умысла и даже без оного, а преднамеренные бомбежки городов Германии в 1942-1945 годах, принесшие смерть миллионам мирных жителей (как это модно говорить – женщин, детей, стариков – именно в данном порядке), таковым до сих не то что не считается, даже не обсуждается сама идея? Ещё один вопрос не по теме – а почему жизнь старика в подобном случае по умолчанию ценится выше, чем жизнь девятнадцатилетнего пацана? Только потому, что пацана обрядили в военную форму, которую не доносил тот старик? Но это небольшое отступление в историю и политологию, да простит мне его дорогой читатель.
Ещё тогда Париж поражал огромным количеством иммигрантов из стран Африки и Азии, в основном, конечно, из бывших колоний Франции в Северной и Центральной части «чёрного континента». Я не шугался в сторону при виде пары чернокожих людей, в Ленинграде хватало студентов из Африки, и в нашем общежитии тоже имелось определенное количество. Нельзя сказать, что мы с ними дружили, но никто их не чурался, разговаривали, пели песни, смеялись над шутками. Наверное, одним из самых скромных и интеллигентных парней во всей общаге был нигериец Иса. Он всегда улыбался при встрече, не помню, чтобы хоть раз с кем-то поссорился, и был в числе первых в учёбе.
Но то студенты, а когда, войдя в довольно плотно набитый людьми автобус на бульваре Барбес, мы оказались единственными белыми людьми в нём, я почувствовал себя не в своей тарелке! И таких районов в Париже и особенно под Парижем в 1988 году имелось уже немало! В одной из французских комедий 90-ых годов незадачливый агент государственной спецслужбы попадает в лапы какой-то арабской мафии прямо в Париже. После допроса с пристрастием, дабы запутать следы, беднягу увозят на машине, потом на самолете, затем снова на машине и бросают посреди узенькой улочки посреди явно арабского города. Вокруг обычная восточная толпа, вывески на соответствующем языке. Растерявшийся агент спрашивает у первого попавшегося прохожего, где находится французское консульство. Тот глядит удивленно и отвечает: «Французское консульство? Оно здесь повсюду!» Ничего не соображающий спецагент бредёт дальше и выходит прямиком на какой-то шумный парижский бульвар… К сожалению, подобные ситуации вполне возможны, это тот случай, когда важнейшее из искусств отражает реальную жизнь.
Мне вспоминается, как жаловались нам пожилые французы – дети русских эмигрантов первой волны, построившие в начале 1960-ых годов дом в северном пригороде Парижа – Ольне-су-Буа. Обосновались они там ещё до нашествия приглашённых (поначалу приглашённых) алжирских гастарбайтеров – экономика бурно росла, а рабочих рук на производствах не хватало. Купили участок в тихом пригороде недалеко от станции электрички, а через 25 лет оказались жителями арабо-негритянского города с населением 80 тысяч человек. На платформе электрички с вывеской Aulnay-sous-Bois трудно встретить лицо со светлым цветом кожи. Попробуйте понять. Вот вы жили среди таких, как вы, не бедных и не богатых людей с примерно одинаковым пониманием морали и норм поведения. Так было, а нынче не боитесь, нет, но вам неприятно выйти за хлебом в булочную, там повсюду на улицах будет кипеть жизнь, но другая жизнь, порой с иными понятиями о добре и зле. И похожих мест под Парижем много.
Понимание того, что массированная иммиграция завела Францию куда-то не туда, было у многих и тридцать лет назад, но политики предпочитали обходить острую тему, отделываясь общими фразами и создавая красивую иллюзию какой-нибудь деятельности. Некоторые так вообще откровенно взывали к самым примитивным чувствам эгоистической натуры человека. Известная нам Марина Влади, сошедшаяся сразу после смерти Высоцкого с врачом и политиком крайне левого толка Леоном Шварценбергом, видимо, под влиянием последнего неоднократно становилась яростной защитницей нелегальных иммигрантов. Самый убойный аргумент для своих сограждан она находила в возрастной структуре французского общества. Мол, приток новых трудоспособных людей из других стран необходим хотя бы для того, чтобы платить пенсии стареющим французам.
Цинично и эгоистично, не правда ли? Цинично и по отношению к этим самым иммигрантам, которых принимают в качестве дойных коров, и по отношению к молодым и будущим поколениям французов, за них ведь таким образом уже решили – с кем им жить, как и в какой стране. Ладно, эти наработают на пенсию стареющей Франции, а дальше-то как? Приглашать инопланетян что ли? Да и далеко не все вновь прибывшие, как известно, мечтают об устройстве на работу, они если и работают, то зачастую «в чёрную». Конечно, мусор убирают в крупных городах иммигранты или их потомки, но кто не видел в том же Париже негров, торгующих на улице дешёвыми сувенирами? Вы думаете, они платят налоги и отчисления в социальные фонды? Пенсионеры получают свои пенсии благодаря их тяжёлому труду? Нет, зато действует параллельная, теневая, экономика. Импорт, опт, розница, в этой схеме всё может быть только в тени.

Лохотрон жив! Французский напёрсточник
Мой инструктор по вождению, пожилой человек лет шестидесяти пяти, с грустью наблюдая где-то в районе многоэтажной жилой застройки праздношатающихся в разгар рабочего дня немолодых арабов, комментировал ситуацию так: «А зачем ему работать? У него три жены (неофициально, конечно) от каждой по три-четыре ребёнка. Он получает кучу пособий – на детей, на матерей-одиночек, на жильё – вот и может чай пить целый день». Конечно, такие варианты случаются не часто, но всё же бывают. Проблем с переселенцами из Африки и Азии уже в те годы было не мало, и они увеличивались. Про нынешние я вообще молчу. Один знакомый хорват, считавший себя, несмотря ни на что, югославом, рассказывал мне (дело было в конце 90-ых годов), как однажды пожаловался ему знакомый полицейский из контролирующего иммигрантов отдела: «Мы прямо–таки с ностальгией вспоминаем 70-ые годы и вас – югославов и португальцев, с вами было так легко работать, не то, что с теперешним контингентом». К концу ХХ века африканская эмиграция уже хорошо расползлась и по провинциальным городам.
Может, мой пассаж об иммигрантах покажется кому-то ненужным и слишком привязанном к нынешним событиям, но тогда это тоже был для меня культурный шок, только отрицательный. Не знаю, как передать охватившие меня чувства, когда я, человек далёкий от религии, тем более католической, увидел негра, мочившегося средь бела дня в стену парижской церкви 17-го или 18-го века! В арабской стране его при подобных упражнениях со стеной мечети, наверное, забили бы камнями на месте.

Юность Франции шагает по центральной улице Лиона. Март 2011 г.
Первый шок от того, что натворили, французы испытали в 1995 году. Тогда группа террористов-самоучек (интернета у них ещё не было) из выросших во Франции арабских юношей, не принадлежавшая ни к какой группировке, даже к никому неизвестной тогда «Аль-Каиде», устроила серию терактов. Погибло несколько десятков человек. Сотрудники спецслужб искали террористов повсюду, нашли и уничтожили. Однако последствия тех событий заметны до сих пор – по всем крупным вокзалам и аэропортам ходят вооруженные армейские патрули, иногда даже с собаками. Правда, ни разу не видел, чтобы кого-то остановили или проверяли, а одна собака на огромные залы регистрации аэропорта Шарль де Голль-2, например, это даже не смешно. Это грустно. И с тех пор на французских вокзалах отсутствуют камеры хранения (как будто нельзя просто прислонить чемодан со взрывчаткой к стенке оживлённого прохода). После 1995 года несколько лет в крупных городах Франции не было мусорных урн. Их использовали террористы для закладывания взрывчатки, и чиновники не придумали ничего лучшего, как вовсе упразднить точки сбора уличных отходов. Французам сказали, мол, носите свой мусор себе домой. Некоторые, конечно, носили. Но со временем сознательных становилось всё меньше, поэтому через пару лет реализовали пришедшую кому-то в голову поистине гениальную в данной ситуации идею сделать урны из прочного прозрачного пластика. И ещё долго во Франции можно было любоваться не только великолепными памятниками архитектуры, но и самыми разнообразными продуктами человеческой жизнедеятельности в импровизированных мусоросборниках.
К слову сказать, французские чиновники, так же, как и наши, умеют принимать «правильные» решения в сложных ситуациях и делать жизнь человека несносной. Во второй части книги (в главе «Трудности обнажают глупости») я расскажу подробно о том, какой бардак устроили в аэропортах парижские кабинетные умники сразу после серии терактов в Брюсселе в марте 2016 года. Сейчас поведаю вкратце. Почему-то чиновники от авиации и полиции решили отменить электронную регистрацию на рейсы. В результате сотворили жуткое столпотворение в залах воздушных гаваней, и это при совершенно формальном контроле безопасности. Террористу было бы легко превратить в кучу кровавого мяса не один десяток человек. Но не успели ИГИЛовцы, что-то у них не сработало.
Правда, такой дурдом, как в аэропорту Парижа, явление малотипичное для Франции, бюрократия там обычно гораздо гуманнее к людям, нежели у нас. Как минимум, была гуманнее. Конечно, отсутствует прописка. Как и во всех европейских странах для подтверждения местожительства достаточно предъявить любой инстанции счёт за воду или электричество, либо за другую коммунальную услугу с указанием адреса и своей фамилии. Только иногда даже прописка оказывается очень полезной в определённых ситуациях. В 1996 году Жак Ширак пригласил приехавшего во Францию Клинтона поужинать в модном ресторане американской кухни. Казалось бы, ничего особенного. Да, но пока два президента вкушали яства, квартал был оцеплен полицией, и его несчастных обитателей не пускали к себе домой. Так как в отсутствии штампа о прописке нельзя доказать, что ты местный житель, ведь никто не догадался положить счета за коммуналку в бумажник или портфель в тот весёлый для двух политиков вечер. Вот и ждали беспечные парижане окончания ужина на улице.
Но, бывает, французский чиновник обнаруживает редкостное понимание простых человеческих проблем. В самом начале девяносто четвёртого года мне пришлось на себе ощутить излишнюю бдительность наших пограничников. Я уже ездил во Францию без всякой визы, ибо имел паспорт этой прекрасной страны. Но стражу границы вынь да положь французскую визу. А откуда я её возьму? Визу дают иностранцам для въезда, я же для французов уже таковым не являлся.
Но питерском консульстве Франции быстро нашли выход из ситуации, они таким «несчастным» как я в нарушение привычных правил стали ставить визы в наши российские паспорта. Это было просто супер, что называется, дёшево и сердито! Хоть подтянули с тех пор наших чиновников, но представить себе что-то подобное в нашем парижском консульстве не могу. Однако и французы уже давно не могут себе позволить такое. Времена меняются.

Это не военное положение. Нет, обычные парижские будни. Военный патруль около Монмартра (терактов в «Батаклане» и в брюссельском аэропорту ещё не было, патрули уже ходили, но оказывали только моральное воздействие). У крайнего слева на плече висит автомат «FAMAS»
Нефранцузы и дороги
Живя во Франции, мне приходилось слышать рассуждения о том, что, мол, мы здесь идём к мультиконфессиональному и мультирасовому обществу, и в этом, якобы, ничего страшного нет, посмотрите на Америку, к примеру.
Есть страшное. Потому что это только самоуспокоение, попытка закрыть глаза и ничего не делать, не расчищать авгиевы конюшни политической и социальной жизни, а ждать, авось оно само как-нибудь образуется. Что-то образуется, бесспорно, только что, вот в чём вопрос! Даже в Америке до сих пор масса проблем на расовой почве, и не похоже, что они успешно разрешаются, скорее наоборот, а ведь там, в стране эмиграции, смешанная нация формировалась, как минимум, пару столетий, а не 50 лет.
Да чего там говорить, чтобы решать подобные вопросы нужно хотя бы знать её масштабы, а во Франции никто не считал, например, сколько в стране живёт негров. Статистика по расовому признаку запрещена. Известно только количество родившихся за пределами страны и их прямых потомков. Всё это для того, чтобы не поощрять расизм. Сколько арабов, турок, пакистанцев тоже никто не знает, существуют только оценки. Французов, возможно, ввела в заблуждение их собственная история. Даже в 80-ые годы ХХ века считалось, что в крови каждого третьего гражданина Пятой Республики (а понятия гражданство и национальность во Франции тождественны) течёт кровь иммигрантов. На тот момент это была, по большей части, кровь переселенцев из Испании, Италии, массово оседавших в относительно зажиточной соседней стране с середины 19-го века. Потом к ним прибавились выходцы из Польши, Португалии, беженцы из Советской России, волна перемещённых лиц после Второй Мировой войны. Все эти люди довольно быстро адаптировались в новых условиях, а их дети были уже обычными французами, и, как это часто бывает с эмигрантами, старались изо всех сил пробить себе дорогу в жизни, получить образование и хорошую работу. Один из премьер-министров времён президентства Миттерана был, кстати, сыном белогвардейского офицера. Пьер Береговуа во французском прочтении, или Береговой в русском. До поры до времени ассимиляция проходила легко.
Такое прошлое, видимо, убаюкивало сознание – ну как-нибудь переварим и этих, новых, пришельцев. Португальцы, между прочим, массово приезжали во Францию ещё в 70-ые годы 20-го века, а слово «кончита» (по распространённому раньше испанскому женскому имени) как синоним слова няня, мне приходилось слышать и в двадцать первом веке. Только уже в 90-ые годы нянями в Париже были в основном арабские женщины, кончиты же на такую работу из солнечной Испании ехать не хотели. Приезжали другие, и общество их «переваривало» с огромным трудом. В качестве иллюстрации: в 1996-м чуть ли не главным хитом на одном из пяти существовавших в то время для массового потребителя музыкальном канале М6 была песня какого-то франко-арабского исполнителя о Родине его родителей. Клип демонстрировал красивый средиземноморский городок – голубое небо, синее море, белые домики, разбросанные по склонам холмов. Открыточные виды Туниса или Марокко. Картинка сопровождалась текстом: mon père est né là-bas, ma mère est née là-bas – в переводе – мой отец родился там, моя мать родилась там. Затем следовали кадры из не самых, мягко говоря, живописных арабских районов одного, скорее всего, парижского пригорода с совершенно противоположным текстом: et moi, je suis né ici dans la misère et laiderie (а я родился здесь, среди нищеты и убожества). Автор песни к тому же слишком вольно обошёлся с французским языком.
Это ведь не ностальгия, нет, её у него, судя по тексту, быть не может, это полное неприятие доставшейся ему реальности. Мы все знаем, во что это выливается сейчас, а тогда французам казалось, как оригинально!
Но если Париж иногда удручал этническим составом уличной толпы, то в городах поменьше я в те годы не замечал наличия большой концентрации понаехавших из Африки. Шартр, Руан, Бьярриц, которые я посетил благодаря своей супруге в первый приезд, в 1988 году, не отличались от столицы той глубокой провинциальностью, что до сих пор заметна в российской глубинке. Нет, там просто было тише, спокойней, но так же чисто, красиво и современно.

У каждого своя Франция. Я её чаще представляю такой
В те времена у нас, к примеру, публика в столицах и в провинции заметно разнилась даже по одежде. Это было особенно видно по девочкам-студенткам, приезжавшим учиться из других городов. С наступлением холодов они напяливали на себя привезённые из дома и купленные для них мамами ещё, наверное, классе в восьмом типичные советские пальтишки с воротником из искусственного меха. По такому пальто безошибочно определяли первокурсницу, но уже ко второму году обучения девицы наши переодевались в более современные и неизвестно какими путями найденные в убогих заведениях Минторга пуховики, дублёнки и прочую зимнюю амуницию.
Во Франции было совсем не так: провинциальная толпа весьма походила на столичную, магазины всё те же, с теми же товарами. Естественно, в столице для шопинга было больше простора, но и торговля по каталогам уже работала во в полный рост, а купленную таким образом вещь можно было вернуть, коли не подошла. Огромные, как энциклопедии, каталоги “La redoute” частенько встречались мне на журнальных столиках французских квартир. Провинциальный француз был тесно связан со столичной жизнью, если, конечно, хотел того. К этому, собственно, располагало всё: рыночная, а не распределительная экономика, размеры страны, прекрасная дорожная сеть и наличие почти у всех автомобилей, скорость железнодорожного сообщения, всеобщая телефонизация и относительная дешевизна междугородной связи. Вспомним, что у нас на периферии бывало так, что телефон имелся в одной квартире из пяти, а то и из десяти.
Перечислять все факторы, сближающие города и веси – дело специалистов. Здесь я хочу немного дополнить свои впечатления рассказом о минителе – компьютерной приставке к телефону. По нему житель отдалённой деревни мог получить доступ ко всем телефонным книгам страны, навести всевозможные справки, совершить некоторые транзакции и даже проконсультироваться у ясновидящей “Madame Soleil” (Мадам Солнце). Минитель купили и другие европейские страны, в том числе Германия, интересовались им в США, а в начале интернетной эпохи даже Yahoo использовал некоторые сервисы минителя.
Вся Франция пронизана сетью скоростных автомагистралей с прекрасным состоянием дорожного покрытия, правда, в отличие от Германии, Бельгии или Испании, платных. Но они позволяют часов за 6-7 спокойно, без нервотрёпки, доехать из Марселя до Парижа, а это почти 800 километров. Хотя и со строительством скоростных автодорог тоже бывают проблемы и не всегда финансового характера. Автострады завязаны в основном на Париж, как у нас на Москву, поэтому строительство поперечных дорог (хорд, как сейчас говорят), безусловно, очень важно. В районе, где я жил, строили такую хорду и строили очень успешно, потом процесс остановился на несколько лет. Оказалось, новая дорога угрожает популяции какого-то редкого вида жуков! Аргумент, что на старой извилистой двухрядке продолжали биться люди, кто-то даже насмерть, подействовал не сразу. В итоге, новую дорогу провели, но экологические соображения продолжают порой побеждать здравый смысл. В городишке, где я жил пять лет, поставили ветроэлектростанцию, и теперь при подъезде к нему самая высокая доминанта – старинная церковь на горе зажата двумя ещё более высокими ветряками. Нет, они возведены, на самом деле, значительно дальше, но зрительный эффект именно такой. Водитель и пассажиры любуются этим техногенным вариантом ожившей фантастики в духе Герберта Уэллса. Зато теперь уж точно не заблудишься, запоминающаяся картинка!
Хотя заблудиться на машине во Франции трудно было даже до появления навигаторов. На каждой площади, на каждом перекрёстке с круговым движением увидишь не меньше 3-4 указателей, надо только знать свой ориентир – тогда обязательно доедешь, успевай лишь головой крутить.
Водят, кстати, во Франции довольно аккуратно, двойных обгонов, которым порой ужасаешься у нас, там не увидишь. Однажды в пятницу вечером ехал с французами по трассе Санкт-Петербург – Псков. Многие, наверное, хорошо представляют себе, что творится в такой день недели летом на дачных направлениях. Французы не представляли, они просто мужественно решили не смотреть в окна (хотя было это в 1997-м, с тех пор некоторые улучшения есть, но только некоторые).
Пешеходам даже горячие корсиканцы уступают дорогу, как только начинаешь поворачиваться на узком тротуаре лицом к проезжей части. Такое отношение вырабатывают ещё в автошколе. Помнится, я спросил своего инструктора, мол, что делать, если пешеход не прав, имея в виду можно ли посигналить сначала. Опытный водитель повернулся ко мне лицом и удивлённо спросил: «Но Вы же не будете давить его!?» Когда я вернулся в Россию в начале нулевых годов, зачастую казалось – значительной части наших водителей для взаимодействия с пешеходами не хватает именно такого воспитания. В цепочке тормоз – звуковой сигнал бывало, что многие ставили на первое место сигнал.
С автомобильными дорогами за французского потребителя успешно конкурировали и конкурируют по сю пору рельсы. И хотя лишь небольшая часть полотна модернизирована под широко разрекламированные высокоскоростные TGV, несущиеся со скоростью 200-250 и даже 300 км в час, но и по всем остальным путям поезда дальнего сообщения имеют темп движения 100 км в час (и это с учётом остановок).
Так и мы тем летом 1988 года в одиннадцатом часу вечера сели в парижский поезд и утром в пятнадцать минут седьмого, покрыв 750 километров, увидели из окна перрон столичного вокзала.
Дорогой читатель, не сравнивай, пожалуйста, линию Москва-Петербург, где ночной экспресс с лёгкостью за 7-7,5 часов преодолевает 660 километров, а сопоставь эти цифры с быстротой передвижения по остальной сети железных дорог России. Средняя скорость движения пассажирского состава у нас едва ли составляет километров 60 в час. Поезд Самара-Санкт-Петербург покрывает около двух тысяч километров за 39 с лишним часов. А из Урюпинска в Уренгой сколько дней ехать по рельсам?
И в тот летний день, за пару минут до прибытия, прошёл быстрым шагом кондуктор (один на несколько вагонов), повторяя как заклинание, дабы разбудить сонную публику: “Paris, quinze minutes!” – Париж, пятнадцать минут (в смысле шесть пятнадцать). Моему удивлению не было предела. Я, часто мотаясь в Ленинград и из Ленинграда на ночных поездах, привык к такой «нежной» заботе наших проводников о пассажирах как общий подъём за час-полтора до прибытия на конечную станцию, вне зависимости от времени оного. Как же, надо чтоб до начала санитарной зоны народ успел совершить все свои дела в заведениях, находящихся в торцах вагона. У французов же педальный горшок отсутствовал напрочь, за заветными дверцами находились биотуалеты, ну и потом, строем французы ходить не любят. Кто что успел – это личное дело каждого, на вокзале места для медитирования тоже имеются. Вот и мы, едва протерев глаза, унесли всё своё с собой, в квартиру родителей жены.
Доспали там до вполне приличных 10-11 часов, позавтракали и опять поехали в центр города. Тут меня ждал ещё один лёгкий шок. В автобусе встретили лучшую подругу жены, которой накануне отправили открытку из-под Бьяррица (во Франции любят посылать из поездок видовые почтовые карточки своим друзьям и родственникам). Опустили её в почтовый ящик накануне, часа в четыре дня, около вокзала, где покупали билеты. Так вот, подруга сразу поблагодарила за красивую открытку (французы очень вежливые люди, и слово спасибо там услышишь раза в три чаще, чем у нас, а уж «благодарю Вас», «позвольте» так вообще трудно сказать во сколько). Она её уже получила с утренней почтой, которую обычно приносят часов в 8-9! Открытка, видимо, ехала тем же поездом, что и мы – это не удивительно. Её бросали, повторюсь, в привокзальный почтовый ящик, но вот то, что утром парижские почтовики успели обработать и донести нашу открытку до адресата, вот это заслуживает всяческой похвалы. В нынешние времена, похоже, французская почтовая служба работает менее оперативно, но вполне эффективно, потеря письма там – чрезвычайно редкий случай.
История с открыткой стала последним крупным культурным шоком в той, первой, моей поездке. Впоследствии тоже случалось подобное, но это уже не было таким ярким, запоминающимся как тогда. Хотя удивляться приходилось частенько. Так, однажды нечаянно наступив кому-то на ногу в переполненном людьми автобусе, я в ответ услышал женский голос, обращённый ко мне: «Pardon». В голосе не слышалось ни тени иронии. Я был в недоумении: ведь точно знал, что виноват именно я. Потом подумал и понял – в такой толкотне на автомате говорят «извините», поскольку как там разобраться, кто прав – кто не очень? В те года в нашем «икарусе» в ответ на мою неуклюжесть потерпевшая сторона вполне могла разразиться словесным ураганом разной тональности, прибегая к помощи специфического лексического инструментария, варьирующего в зависимости от эмоционального настроя и культурного уровня конкретного человека. А как хочется, чтобы было так как в Париже! Написал эти строки, и через месячишко примерно случился со мной подобный казус, только не в парижском автобусе, а на питерском тротуаре. Сделал неловкое движение – не обернувшись шагнул назад и аккурат налетел на ногу только что перешедшему улицу молодому человеку: Я ещё ничего сообразить толком не успел, как услышал: «Извините пожалуйста!» Неужели дожили?
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽