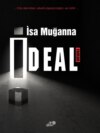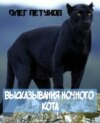Читать книгу: «Проект Лумумба», страница 10
В тот день, или вечер, пришла моя маманя, в квартиру этой соседки. На помощь. Неизвестно какую, но, согласно просьбе. И что показывает, эта Надя моей маман. Она поднимает деревянный подлокотник потёртого временем и молью плюшевого кресла. А там – тайник! В полости, открывшейся взгляду, лежат изделия из жёлтого металла! Колечки, цепочки… И прочие, подобные побрякушки. Вынули всё, разложили, не столе. Да, дорогой мой читатель! Это было, именно – ОНО! Да, да, да! Ты угадал! Это было – золото! Посмотрели пробу. Пятьдесят шестая! Но, при совке, производимые ювелирные цацки, маркировались пробой «пятьсот восемьдесят третья». Это означало, что в данном сплаве, имеется пятьдесят восемь целых и три десятых процента, чистого золота. А остальное, есть «лигатура». Добавка, значит. В тот исторический, советский период, лигатурой была медь. А сейчас, стандарт изменился. На общемировой. Лигатурой теперь служит серебро. А пятьдесят шестая проба, была при царе-батюшке. Значит, найденный клад состоит из золота, царских времён! Моя мама, как человек насмотревшийся и начитавшийся в детстве, как и положено нормальному ребёнку, всяких приключенческих и детективных сюжетов, сказала этой Наде: «Надо искать дальше! По всей квартире. Заглянуть везде и всюду! Может быть, есть ещё. Где-то…!». Не знаю, как долго они ковыряли плинтусы и прочие потаёные места, но на антресолях, среди всякого хлама и чемоданов с занафталиненной зимней одеждой – был найден небольшой, матерчатый мешочек. С какими-то засушенными, лечебными травами. Он хрустел на ощупь. Но был подозрительно тяжеловат. Для сухой-то травы!
Открыли этот мешочек и увидели, кроме сухой травы, такой же набор изделий из жёлтого металла. Как и в подлокотнике плюшевого кресла. Дальнейшие розыски и поиски – никаких результатов более не принесли. На этом, активность доморощенных золотоискателей была прекращена. В ходе дальнейшего осмысления перспективных действий в части находки, соседка Надя высказала мнение, о необходимости обдумать ситуацию. В деталях. Что и как. Взяла тайм аут, как бы… Спустя несколько дней, она сообщила моей мамане подробности о происхождении находки. Оказалось, что отец Моисея Давыдовича, до революции, содержал ювелирный магазинчик. И кое-что сумел спасти, от изъятия советской властью. Какой-то мизер. Основную массу золота, большевики изъяли, конечно. В каком именно году? История семьи Черномордиковых, хранившаяся в Надиной памяти, таких подробностей не сохранила. Да, ей такие тонкости и не были известны, наверное. Если найденное явилось для неё неожиданностью. А жили эти люди, крайне экономно. Но один раз в год, или в два, выезжали они летом на Кавминводы. Это было хорошим тоном в Баку того периода. Посещение Кисловодска или Ессентуков – являлось свидетельством некоего статуса. Статуса приличных людей. Пекущихся о своём здоровьи. А также, своих детей. Или даже, уже и внуков. Поэтому, при советском уровне зарплат или пенсий, мысли о летнем курорте накладывали отпечаток режима экономии. В течение предстоящего расходам всего финансового года. Но долги после периода летнего, с выездом, отдыха – были вполне нормальным и широко распространённым явлением.
Всё это, мне рассказала маманя. В ответ, я выразил своё мнение о том, что сунуться в официальную скупку ювелирного лома, Черномордикова не рискнёт. Она работает уборщицей, растит сына без мужа – и вдруг… В квартире, в которой соседка прожила всю свою сознательную жизнь, обнаруживается клад. По закону, она должна сдать его государству. И подождать. Когда и если. Скорее – вдруг! Государство решит отблагодарить счастливицу. Согласно, советскому закону. Тут, ключевое слово – Закон. Именно отсюда и начинаются сомнения. В правильности такого подхода. Умнее будет – другой путь. Никакой огласке это дело не предавать. А тихо и мирно реализовать эти предметы. Вопрос – кому? И, через кого? Я предложил пойти самым очевидным путём. Дело в том, что ещё мои бабушки и дедушка Алексей пользовались услугами одного стоматолога, с незапамятных времён. Качеством работы, которого, они были довольны. И не одно десятилетие. Лет за пять, до описываемых событий, мой папаня посетил этого доктора. По вопросу протезирования. Раскрою-ка я эту тему несколько подробнее. Инвалид войны, Николай Иванович, содержал частный стоматологический кабинет, на улице Абилова. По месту жительства. Совдепия допускала таковое. Вполне официально. Папахен, уже прожил лет двадцать с золотыми коронками от Николая Ивановича. Будучи вполне довольным этим фактом. Но разрушились другие зубы и назрела необходимость ремонта. По старой памяти, папаша двинулся по знакомому адресу. Но там, работал уже сын Ивановича – Павлик. Если старший стоматолог был на несколько лет младше моих бабушек, то и разница между их отпрысками – была приблизительно такой-же. Павлик окончил стоматологический факультет, в Дагестане. Учиться там – было дешевле, чем в Баку.
По окончании института, Павел оказался перед дилеммой. Николай Иванович спросил сына: «Ты карьеру хочешь делать, или деньги зарабатывать?». Это сейчас может прозвучать несколько странно. Ведь люди занимаются своей карьерой, чтобы её монетизировать! Но в советское время, монетизация карьеры в деньги… Вопрос исключительной сложности. Распадающийся на тьму подвопросов. Например, «деньги, это сколько?». С чистой совестью, без ночных страхов, перед предстоящими обысками и дальнейшими процессуальными сложностями, можно было жить. И при развитом социализме. В расчёте, только на зарплату. Скудную. Но – гарантированную. Усреднённо одинаковую. Правда, на грани… Между нищетой и «не совсем». Однако, при таком грустном состоянии личных доходов, были существенные плюсы. Совок обеспечивал людей жильём. Увидеть бомжеватого оборванца, на улице – было событием редким. Купить или продать квартиру нельзя. Теоретически. Но, практически – возможно. «Строй двойных стандартов». Таково имя этого строя, по-жизни… Когда все равны, но есть более равные. Ну, ладно. Возвращаюсь к Павлику. Он человек прагматичный, основы жизни уже познавший, поэтому выбрал деньги. Где-то числился врачом-стоматологом. Но работал и зарабатывал – в папином кабинете. По месту жительства, на улице Абилова. Таким образом, мой папаня и познакомился с Павлом Николаевичем. Придя к нему в зубной печали. Павлик был заядлым автомобилистом. Жигулистом. В детстве и юности, освоив отцовскую «Волгу». Но открыв свою практику, пересел на продукцию Автоваза. Образцы которой, менял каждые три года. Как только машина достигала пробега тысяч сто километров – она продавалась. По доверенности. И покупалась, новая. В магазине.
В итоге сложившихся клиентско-исполнительских отношений, мой папаня и упомянутый Павел, завязали отношения дружеские. Начали дружить домами. Так вот, я и отправился к своему папаше. Обрисовал ему всю ситуацию с соседским золотом. С тем, чтобы он засвидетельствовал Павлику факт добросовестного происхождения кучки жёлтого металла. Павел всё принял ко вниманию и назначил мне время доставки. Первой трети «рыжика», примерно… Что я и сделал. Расчёт был произведён по цене двадцать рублей за один грамм. Цена скупки официальная, согласно Прейскуранта № 111, была тогда – двадцать четыре рубля, за один грамм золота пятьсот восемьдесят третьей пробы. А у нас – пятьдесят шестая, царская. В наличии. Через день, операция была повторена. И ещё, через денёк, я в третий и последний раз, отвёз ему остаток «рыжухи». И опять получил денежку. Итого, материала оказалось реализовано – ровно один килограмм. Из всех предметов, нам понравилась, по приколу – цепочка витого плетения, метра полтора, с пружинистым карабинчиком на одном конце. Для мелкой собачки, наверное! Плохо ведь, при царе, люди жили. Собачонок на золотых поводках выгуливали. Хахаха… Итого. Советских рублей, мне, зубной врач отмусолил, от щедрот своих – двадцать тысяч рублей. Ровно. Для справки: чёрно-рыночная цена моей отсуженной у горисполкома двухкомнатной квартиры, также была равна двадцати тысячам. Всё тех же советских рублей. При инженерских зарплатах, при ста двадцати рублях – в месяц. Забавно, правда? Сразу анекдот, тех времён, вспомнился. Как у одного человека возникла острая непроходимость кишечника. После обследования, хирург ему сказал, что в заду у пациента застряла газета. Пациент удивился: «Правда?». Хирург уточнил: «Нет, Комсомольская правда». Туалетная бумага, при совдепии – была товаром редкостным. Но встречалась в торговле, чуть чаще, чем золотые клады…
Получили – разделили. По справедливости. Потому что делил я. Согласно устоявшимся соотношениям. Чёрнорыночным. За посреднические услуги, с учётом всех сложностей и рисков, была определена негласная цифра. Десять процентов, от реально полученной денежной массы. Таким образом, Наде было выдано, восемнадцать тысяч советских рубликов. Это была осень восемьдесят третьего года. Штукарь я отдал маме. Прокомментировав: «За наводку». Что там со своими денежками делала наша соседка дальше, нам было не известно и неинтересно. Видимо, сохранив завещанный родителями стиль «не отсвечивать» – соседка повела себя скромно. Из заметных приобретений, у неё появился шёлковый халат, до пола. С драконом во всю спину. И никаких автомобилей. Или появившихся на рынке вэхаэсников. По цене, в половину меньше автомобильной. А при жизни старшего поколения, они варили суп из рыбьих голов. Распостраняя вонь, на весь подъезд. Как вьетнамцы, в институтской общаге. Но в отличие от приезжих студентов, они посещали в летний период Кисловодск или Ессентуки. Так, за несколько дней и шесть поездок на такси – я «отбил» годовой оклад кандидата наук. За вычетом партвзносов. Беспартийного кандидата быть не могло, по определению. Поэтому, особенно, я и не спешил устраиваться на работу. Согласно полученного распределения. В сумгаитский Химпром. Незавершённые дела ещё надо доделать. Госпредприятия пусть подождут. В первую очередь – мне следует получить ордер, на квартиру. Затем, провести телефон.
А у Павла Николаевича созрел план, относительно меня, видимо. Для начала, он решил показать мне технологию изготовления золотых коронок. Зубных. Ну что же, новая информация всегда интересна. А порою и даже полезна. Особенно, когда речь идёт о деньгах. Ну, начало было положено ранее. Реальное движение произошло. Значит, надо разобраться, в подробностях. Технологических. Итак, приступим! В работу принимается металл, только ювелирного происхождения. Приисковое золото – есть тема табуированная. Наглухо. «Будут даже если предлагать, по рублю за килограмм, то я откажусь. Спасибо, мне не нужно, отвечу. Сейчас все прииски под ингушами. А государство расценивает все операции с не ювелирным золотом, как особо тяжкое преступление. И вообще, в нашей теме есть своя специфика. Ну, мне приносят материал для работы не только сугубо стоматологические клиенты. Бывает, что людям необходимо продать ненужные им вещи, а идти в скупку ювелирторга – они не хотят. По каким-то своим причинам. Мне не интересным. Вот я и выручаю граждан. Как и тебя, выручил. Кстати… Ведь, всякое в жизни бывает. Вот, например. Принесли мне орден Ленина. Золотой. Такие делали раньше. Проба – пятьсот восемьдесят третья. А барельеф Ленина – платиновый. Я платину отделил плоскогубцами. Там, сколько граммов было не знаю, не взвешивал. А просто взял и выкинул, этот ленинский образ. В дырку канализационного люка на улице перед воротами. Платина – материал более тугоплавкий и менее ковкий. Чем золото. Поэтому, в зубном протезировании не применяется. Такова наша специфика. Золото после переплавки теряет историю своего происхождения», – поучал меня Павел Николаевич.
Для того, чтобы расплавить металл, нужен источник нагрева. Им служит горелка. По типу горелки для газовой сварки. Только вместо ацетилена используются пары бензина. Которые получаются в специальной металлической ёмкости. С двумя трубочками, приваренными к крышке. Одна трубка – почти достигает дна ёмкости. Другая – лишь на несколько миллиметров погружена в объём нашего реактора. Сверху крышки выступают другие концы, этих двух трубок. На один из этих концов, надета резиновая трубка, присоединённая к компрессору, который качает воздух. Компрессор у Павлика – был от бытового бакинского кондиционера. Можно использовать и от старого, выброшенного холодильника. Другая резиновая трубка – была приспособлена к горелке. Как газосварочной, но размером – сантиметров двадцать. В нашу ёмкость, заливается бензин. До половины. Воздух, под давлением, подаётся в ту трубочку, которая длинее. И он булькает, в толще бензина. Образовавшиеся пары, заполняют свободный объём нашей банки и выходят через короткую трубку. Через шланг – в горелку. Вот и весь золотоплавильный завод, на кухонном столе. Ещё, необходима форма, в которой будет происходить плавление. Эта формочка была изготовлена из тугоплавкого металла. На фрезерном станке, какого-то машиностроительного завода. Ёмкость формы – примерно, как спичечная коробка. Золотой лом, размельчается кусачками. На более мелкие фрагменты. Затем, насыпаем буру – на дно формы. Это такой белый, кристаллический порошок. Он служит флюсом в нашем процессе. Загружаем лом в нашу форму. Посыпаем бурой, ещё. И начинаем нагревать. Регулируя пламя горелки так, чтобы был только синий хвостик пламени. Это максимум температуры, который может выдать наша горелка. Водим пламенем по золоту, равномерно нагревая всю массу. Пока в сплаве присутствует лигатура – цвет расплава ещё не тот волшебный!
Ждём, когда вся масса металла, находящаяся в нашей формочке, расплавится. Затем, лёгким движением руки, выливаем жидкий металл в ведро воды. Ведро должно быть металлическим! Раньше, охотники так делали свинцовую дробь. Но, мы-то получили дробь золотую! Сливаем воду, оставшееся золото подсушиваем на газетке. И ждём вечера! Вовсе не для соблюдения тайного ритуала. Просто, когда народ уже затих и погрузился в сон – начинается само таинство травления. На крыше дома Павла Николаевича. Именно там устанавливается трехлитровая банка с концентрированной азотной кислотой. Куда и высыпается золотишко. Процесс пошёл. Всё, можно спускаться. Если кто-то не спит и смотрит в небо, то может увидеть, как старик Хоттабыч взлетает с павликиной крыши. Химики называют рыжие выбросы окислов азота, над химическими заводами – «лисий хвост». Зрелище специфическое. И ядовитое. Но к утру – процесс заканчивается. Хоттабыч улетел, а на дне банки остался «чистяк». В общих чертах. Нужны ещё кое-какие, суперфинишные действия. Первым делом, промывание мелких кусочков, почти песка, под проточной водой. Вся лигатура исходного сплава растворилась в «азотке». Промыли, подсушили. И снова засыпали в нашу форму. Всё так же, с бурой. Слегка. Нагреваем равномерно. Получаем расплав. Но на его поверхности заметна плёнка. Берем сухую палочку и водим ею по поверхности жидкого золота. Палочка постепенно обгорает. И образовавшийся уголёк адсорбирует в себя эту «бяку», с поверхности расплава. Когда он приобретает однородный вид, без какой-либо плёнки, которая бы счищалась углем – работа завершена! Вот, теперь можно наладиться зрелищем! Вид расплавленного золота – завораживает! Цвет заходящего Солнца! Как капля ртути, шевелится расплав внутри формочки, при лёгком встряхивании… Мистическое зрелище. Вставляет!
Технология плавления и очистки золота шлифовалась поколениями зубных техников и ювелиров. Цель этих манипуляций состоит в очистке золота от инородных примесей. Потому что, в местах включения других металлов, возникает разность потенциалов. И появляется электрокоррозия, как следствие. Результат которой – дырка в коронке. А кто обратится к врачу-бракоделу ещё раз? Да, ещё и знакомым своим отсоветует. Поэтому, была отработана оптимальная технология. Надо стараться очистить золото от примесей других металлов. Тогда электрокоррозия уже не грозит. Когда коронка уже сформована, на её донышко кладут кусочек припоя. И нагревают, добавляя буру. Припой, это более низкопробное золото. В металлургии есть правило о температуре плавления сплава различных металлов. Которое гласит о том, что температура плавления сплава – «ниже нижнего». То есть, самого легкоплавкого. Зубной техник или ювелир изготавливает припой, соответствующий примерно трёхсотой пробе. Поэтому, нагревая коронку с маленьким кусочком припоя, лежащим на её дне – мы добиваемся расплавления этого припоя, не повредив саму коронку. И получается, что жевательная поверхность становится намного толще стенок. Максимальному износу подвержена именно жевательная поверхность зуба, а не боковая. В этом и есть бизнесс! При уменьшении веса коронки за счёт её толщины вполовину от норматива, нет проигрыша в долговечности изделия! Но клиент об этом не знает. Зачем ему излишние переживания? Он и так болеет. В конце концов, конечная цена его устроила. И если он будет использовать зубы только по прямому назначению – изделие прослужит ему исправно, лет десять.
Так, ну с технологией теперь – понятно. Но как мне это может пригодиться? Скорее – никак. Что я и высказал Павлику. Но прояснилось, что человек, который ему помогал в части изготовления зубных протезов, намылился уволиться. Это был отставник из числа военных. С приличной пенсией. И эти зуботехнические работы, для него, являлись дополнительным приработком. Занятием необременительным, но и наваром невеликим. Он-то не имел своего процента с оборота. Являясь лишь наёмным работником. Но бизнес остро нуждался в такой единице. Как выяснилось, далее. Потому что Павел спросил: «Нет ли кого-нибудь на примете, в части исполнения коронок? Чтобы был аккуратен и склонен к работе руками? За деньги!». Я ответил, что есть такой парень, со мной на подготовительном отделении учился раньше. Он сейчас не работает, да и с женой какие-то разборки. Правда, на почве этих жизненных неустройств слегка бухает. Но, может быть, столкуетесь… «Дай ему мой адрес, пусть заходит», – ответил Павел Николаевич. Вот так и поговорили. Мне-то, такое копеечное занятие, не интересно вовсе. В самом начале студенческой жизни, освоив пошив джинсовых юбок, если я не заработал пятьдесят рублей, за смену… То этот день – был прожит зря! Но, самая «пруха» началась в период изготовления плащей мужских двубортных, в стиле «тренчкот». Из перчаточной козлины индийской. Два вагона которой заблудились на перегонах МПС и заехали на территорию бакинского кожзавода. Морские двадцатифутовые контейнеры шли из Ирана. В Европу, наверное. Контрабандой! Потому как, без документов. Смотри, вбив в поиске своего браузера: Ё-пэрэсэтэйка-3.
Так, неспешно, ещё один год прошёл. А я, по-прежнему, нетрудоустроен. Зато – оформлена прописка и проведён телефон. Правда телефон – это мамина заслуга. У неё занималась химией – некая девочка. Одна, из многих. Папа этой девочки знал управляющего Промстройбанком. А управляющий, знал заместителя министра связи АзССР. Долженствующие предварительные разговоры состоялись, и мама понесла заму министра подарок – серебряный подстаканник с хрустальным стаканом и коробкой шоколадных конфет. Но не подстаканник, ценой в девятьсот с копейками, был поводом для знакомства с официальным лицом. Смысл затеи состоял в подаче заявления на установку телефона. Ведь формальности следует соблюсти. Зам наложил резолюцию, на заяву. И через неделю к нам пришли монтёры. Дело было сделано! Телефон – установлен. С номером 96-24-26. Это был уже второй телефон, обретённый маманиными усилиями. Первый мамин опыт в этой части – увенчался получением номера 92-04-12. Это было ещё в 1964-м году. Девятку потом прибавили. Поначалу, была просто «двойка». Это – район Баксовета. Самый центр. Центрее – не бывает. Один раз, помнится, произошёл прикольный случай. В моём детстве. Часто стали ошибаться, попадая к нам вместо учреждения, с похожим номером телефона. Там был номер 92-04-11. И это был ЦК ВЛКСМ АзССР. Задолбали. И звонят из всяких районов республики. Ну, утомили! В очередной раз, звонят: «Это ЦК?». Я отвечаю: «Не звоните больше по этому номеру! Нет теперь этой организации. Расформировали её!». Проходит несколько дней. К матери на работу позвонили из райкома партии. Оказалось, что эти сельские сограждане подняли панику, обрывая телефоны руководящих товарищей: «Как, что происходит, республиканский ЦК ВЛКСМ закрыли??».
Всё бы ничего, но маманю начали тревожить в институте: «Ваш сын, до сих пор не появился там, куда его распределили! Год прошёл, календарный. Всю отчётность портит. Решите вопрос». Мы подумали, подумали – и приступили, помолясь. Образно говоря, конечно. Мне в подмогу, был выделен какой-то чел, из институтских преподов. Которому надо было посетить это предприятие, в Сумгаите. Прибыли мы в кабинет зама по кадрам. Который, критически осмотрев меня, в результате назвал цифру. Однако, обозначил и альтернативный путь. Через медицину. Но очень туманно. Высказав, что вот приходят люди, со справками о дефектах в органах дыхания, или пищеварения. Но у нас, ведь не только на производстве, возможно трудиться. Можно и в кабинете. Везде в помещениях заводоуправления, есть кондиционеры. Или – вышеназванная сумма. В две тысячи рублей. Тогда, отправим письмо в Министерство Химической промышленности СССР. Ведь мы не республиканского подчинения предприятие, а союзного. Напишем, что вакансий нет и этот молодой специалист, нам не нужен. На том и распрощались. Я вышел первым, но услышал, как хозяин кабинета сказал моему провожатому: «Да кто за него две тысячи даст??». Так, думаю: « Дядя, сыграть хочешь? А сыграем!»… Этот институтский чел остался на заводе, а я – двинул домой. Еду в автобусе и размышляю. Значит, пятьдесят копеек – туда, пятьдесят – обратно. Плюс пообедать. А ещё, до автовокзала утром. И обратно, вечером. Опять, не бесплатно. И так – двадцать два дня, в месяц. Или, двадцать четыре? При зарплате, рублей в сто десять, на руки. Потому что минусуют за бездетность. Ещё и что-то делать на этом заводе придётся. Не приведи, господи. Среди вонючих, ядовитых и взрыво-пожароопасных устройств. Размером, с пятиэтажный дом. Думаю, трясясь в набитом ПАЗике: «Нет, Дядя – а ху-ху, не хо-хо?». Этот жаргон – для посвящённых… Того времени.
На следующее утро, пораньше, я уже стоял возле окошечка регистратуры психоневрологического диспансера. Назвал фамилию, протянул паспорт. Девушка поковырялась и говорит: «Нет вашей карточки. Три года назад, посттравматики с черепно-мозговыми травмами признаны годными, в мирное время, на сто процентов. Если вы и состояли на учёте ранее, то теперь – нет. До свидания». Так, приехали… Холостой ход! А может быть, оно и к лучшему? Дую в институтскую поликлинику. «Мне выписка нужна, из карточки. По месту работы требуют», – говорю в регистратуре. Медсестра отвечает, что карточка сдана в архив. Но если главврач скажет «найти», то – найдём. «Так спросите, у него!», – говорю. «Заходите завтра», – слышу в ответ. Зашёл завтра, к главному. А он, какой-то дальний родственник моего одноклассника, по школе. Ханукаев – фамилия этого доктора была. За столом сидит этот Ханукаев и рассматривает мою медицинскую карточку. Уже найденную в архиве. Говорю: «Мне выписку из карточки, на работу». Он вычитывал карточку, вычитывал. А там – четыре листа. Первый лист – это справка из ПНД, что я у них на учёте. Эту бумагу я притащил, ещё обучаясь на подготовительном. Превентивно. Мало ли что… Дальше, ещё пару листов, как я справки брал, с гриппом. Так этот Ханукаев и спрашивает меня: «Тебе какая справка нужна, что ты болен, или нет?». А у самого, уже цифры, в глазах прыгают. «Что в карточке есть, то и напишите», – говорю. Он, поняв, что ему не светит: «Вот, что в карточке есть, то и напишу!».
А мне только того и надо! Сдал справку институтскую, о том, что я клиент псих-диспансера в заводской здравпункт. Зашел к секретарше и написал «заяву». Что прошу отпустить меня, на все четыре стороны. По состоянию здоровья. И вполне довольный содеянным, отправился восвояси. Домой, значит. Через месяц, Министерство Химической Промышленности СССР прислало мне бумагу. Домой. На министерском бланке и с министерской печатью. Что такому сякому предоставляется право свободного трудоустройства. Первый, кому я мысленно показал неприличный, ритуальный жест – был этот тип. Который презрительно сказал, обо мне, месяцем ранее: «Да кто за него, две тысячи рублей отдаст??». И сразу-же подумал: «Вот ты и отдал, точнее – не получил, Дядя!». Но теперь, у меня нет никаких поводов и причин не трудоустроиться. Открываю телефонный справочник города Баку и начинаю просматривать. Раздел «Организации и учреждения». Тогда, город насчитывал около полутора миллионов жителей. А нетрудоустроенные сограждане – именовались тунеядцами. И могли быть привлечены к ответственности. Поначалу, к административной, а потом – и к уголовной. Поэтому, самые ушлые и вольнолюбивые советские люди, имеющие какой-то доход, не связанный с бухгалтериями и КЗОТами, поступали так. Свою трудовую книжку, они отдавали в какую-нибудь не слишком щепетильную организацию, под видом кадрового работника этой «шараги». Где им начисляли зарплату, ежемесячно. Но таковая просто делилась, между работодателем и работником. Согласно достигнутой договорённости ранее. Средневзвешенный норматив был – пополам. И все довольны. Ибо, справедливость – превыше всего! Они делают вид, что они нам платят – мы делаем вид, что работаем. Девиз того времени. Развитой социализм, всё пучком!
Листал я справочник, перелистывал дня три. Наконец – выбрал! Организация называлась – «Специальное конструкторское бюро Министерства местной промышленности». Думаю – оно. Это то, что нужно! Оазис капитализма, в замшелом мире тяжёлого советского машиностроения. В основном, при совдепии, уделялось внимание производству товаров группы «А». Это производство средств производства. Ну а товарам группы «Б» – совок, должного внимания не уделял. Это не вписывалось в его идеологический базис. Идеальный советский строитель коммунизма не должен быть обуреваем «культом вещизма». Он должен жить впроголодь. И иметь пламенный мотор вместо сердца. Всегда быть готовым к тому, что родина пошлёт его осваивать просторы тундры с киркой и лопатой. Но не все советские граждане были согласны с такой политикой партии и правительства. Часть сограждан желали жить в тепле, сытости и относительном комфорте. Как члены партгосноменклатуры. Которые кормились и прибарахлялись – отдельно от основной массы трудящихся. Но были и здоровые ростки частной инициативы. Которые локализовались в упомянутом выше Министерстве местной промышленности, Министерстве бытового обслуживания населения, Потребсоюзе и ещё ряде более мелких организаций. Деятельность этих структур была направлена на производство товаров народного потребления и оказании услуг населению. В быту, эффективные менеджеры этих подразделений именовались «цеховщиками». Со всеми вытекающими, при совдепии, последствиями.
Решение принято. Начну-ка я, с этого СКБ. Зная, что мама моего школьного друга, активная и коммуникабельная, имеет в числе своих знакомых и бывших коллег по работе массу полезных и нужных людей. Думаю, может быть, повезёт! Тем более, что она должна мне четыреста рублей. Так уж получилось… А парень этот, мой бывший соученик по сто шестидесятой школе, уже свалил в Москву. Закончив, в Баку строительный институт. Когда я только вернулся из армии, зайдя к нему, увидел интересную картину! Он сидел и шил рубашку. Себе. Самый тренд, того времени – в стиле «милитари». Вот так и началась наша швейная эпопея… Дорогой читатель, не буду тебя утомлять подробностями нашей забавной молодости. Потому как, на эту тему можно писать и писать. Взгляни сам на этого моего школьного друга. В кинофильме «Двадцать четыре часа», года примерно двухтысячного. Он там играет оптового продавца парфюма, Анзора. Однажды, в Москве девяносто третьего или четвёртого года, в кругу друзей, я высказал идею о том, что можно снять художественный фильм по мотивам ежедневных происшествий. Потому, что это не жизнь, а «кино» … При чём, каждый сыграет сам себя. Но, на актёров одной единственной роли потянули бы все. А потом – запулим эту ленту, на телевидение. И войдем в долю, от проката. Итого: нужна камера, монтажер видео и звука. Ну, в общем, дилетантские размышления о сфере непознанного. Но заманчивого! В те времена идеи сотен проектов, рождались и умирали, в течение суток. Но жизнь пошла своим путём… А каково было моё удивление, когда в начале двухтысячных, я увидел по телику того самого приятеля. В кинофильме – «Двадцать четыре часа». Потрясающе! Но не об этом, данный текст…
Поэтому, я и обратился к тёте Рае: «Нет ли знакомых, в этой организации?». «Есть – главный инженер. Мы работали вместе, раньше». «Когда поедем к нему?». «Завтра». Отлично, конец нити зацеплен – будем разматывать! Спрашиваю, дома, у мамани: «Есть ли кто в местной промышленности?». «Есть. Этажом выше меня, на кафедре общей химии – Ахундова, её фамилия». «Это как?? А в Местпроме-то, кто работает?». «Не она, понятное дело, а её муж. Работает в Министерстве местной промышленности». «Кем?». «Министром!». Я понял, что уже зачислен. Но, тёте Рае об этом, знать не надо. Спустя пару дней, в назначенное время, прибыли мы к её знакомому – главному инженеру. Поговорили. Выяснилось, что у них есть и швейное направление. Вызвал он шефиню портняжек. Пришла упакованная тётушка и сразу подружилась с тётей Раей. А мне сказала, что у неё работают, только женщины. И муж этой руководительницы – не последний человек, в городском ГАИ. Холостой ход. Продолжили разговор с главным и обнаружили искомое. Оказывается, в этом СКБ ещё есть сектор «ХРИК и ХО». Это не то, о чём ты подумал, дорогой читатель! Эта абревиатура означает – «художественная разработка изделий культурного и хозяйственного обихода». Был вызван начальник этой административной единицы и я покинул кабинет для ознакомления с профилем работ. Поговорили-потолковали с этим челом. Выяснилось сразу! Работы здесь – непочатый край! Через пять минут, я уже сообщал главному инженеру, что принял заказ на разработку настенного светильника и готов приступить. Результат принесу, дней через десять. Действующий макет! Тогда и поговорим, о трудоустройстве. Конкретнее. Забрал тётю Раю, сели в такси и отчалили. Ей сказал: «Долг погашен окончательно, претензий нет, спасибо большое. Вы мне очень помогли!»
Так, новое поле деятельности обозначилось. Никогда не обращал особого внимания, на внутрикомнатные светильники. А вот, понадобилась информация! Это сейчас – потыкал пальцем в клавиатуру и нашёл всё. За считанные секунды. А тогда, пробежался я по магазинам. Посмотрел, есть ли светильники вообще. Если и узрел пару образцов, то хорошо. Дунул к папаше, домой посовещаться. А он, с супругой, только что из Питера приехали. В отпускное время они посетили культурную столицу. Изложил ситуацию. И папина третья жена, Виктория, кандидат биологических наук вытаскивает из коробки светильник. Финский. Это они в Питере приобрели. Буквально несколько дней назад. Есть, вот она – искомая «эврика»! Идея найдена. Такого рода крепление светильника, к любому предмету интерьера я никогда не видел. Это теперь, среди гигантской массы товаров, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя, предмет должен обладать сверх-оригинальными качествами. Невиданными, доселе. И тот светильник, сразу в моих глазах «пропал в десятку». Сейчас, таких полно. Может быть и у тебя, дорогой читатель, есть такой. Это – «светильник на прищепке». В быту, удобнейшая штука. Мобильная и функциональная. Начали размышлять, с папой, на эту тему. Дело в том, что мне были выданы предварительные инструкции, в местпромовском КБ – избегать применения металла. Только пластмассовое литьё. Потому что пластмасса, в Азербайджане производится. А металл – нет. Не любая, конечно, пластмасса. Например – полистирол ударопрочный. Он, вообще, импортный. Но, папа подсказал выход – мы сами склеим корпус светильника любой формы. Как корпус, для гоночного болида. Из стеклоткани и эпоксидной смолы. Папаня, у меня был – ну, Кулибин! В полный рост…
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе