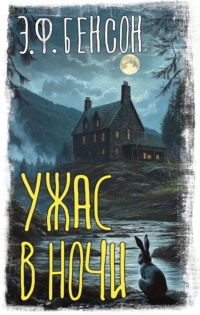Читать книгу: «Ужас в ночи», страница 6
Диван, на котором лежала Мэдж, недавно переобтянули серовато-зеленым бархатом, напоминающим лишайник. Вытянув руки вдоль тела, она с наслаждением погрузила пальцы в густой мягкий ворс. А ведь чешуя на лице миссис Кэннинг была как раз цвета лишайника. Какая жуткая история!.. Не успев об этом подумать, Мэдж провалилась в сон.
Ей снилось, что она проснулась ровно там же, где заснула, и в том же положении. Огонь в камине вновь разгорелся, и пятна света своенравно плясали на стенах, освещая портрет красавца Дика. Во сне Мэдж прекрасно помнила, что делала утром и почему лежит теперь здесь, вместо того чтобы кататься с остальными. Помнила она и то, что собиралась вернуться к себе и провести время до чая за написанием писем. Приподнявшись, она бросила взгляд вниз и обнаружила, что не понимает, где кончаются ее руки и начинается серый бархат диванной обивки: пальцы словно растворились в нем, хотя запястья, голубые вены на тыльной стороне ладоней и костяшки были вполне различимы. Потом Мэдж вспомнила во сне, о чем думала, прежде чем заснуть: о лишайнике, покрывшем щеки, глаза и горло миссис Кэннинг. При этой мысли ее охватил удушающий ужас ночного кошмара: она поняла, что превращается в зеленовато-серый бархат и не может пошевелиться. Скоро он распространится по рукам и ногам, а когда все вернутся с катка, то обнаружат вместо нее гигантскую бесформенную подушку цвета лишайника. Ужас достиг высшей точки, Мэдж огромным усилием воли вырвалась из цепких объятий злого сна и проснулась.
Несколько мгновений она лежала неподвижно, охваченная неимоверным облегчением. Она вновь ощутила приятное прикосновение бархата к коже и несколько раз провела рукой по поверхности, чтобы убедиться, что не растворилась в мягкой серости. Несмотря на резкое пробуждение, Мэдж по-прежнему сильно хотела спать и лежала до тех пор, пока не поняла, что уже не видит своих рук, потому что за окном почти стемнело.
В этот момент угасающий огонь в камине внезапно выпустил язык пламени, и разгоревшийся торфяник осветил галерею. Мэдж снова увидела свои руки, а с портрета над камином на нее злорадно смотрел красавец Дик. Тут ее пронзил ужас еще больший, чем во сне. Дневной свет погас, и она осталась в жуткой галерее одна в темноте. Мэдж окаменела от страха, совсем как во сне, только положение ее было еще хуже, потому что теперь она не спала. Наконец она со всей ясностью осознала причину леденящего ужаса: на нее снизошла абсолютная уверенность в том, что вот-вот появятся близнецы.
На лбу выступила испарина, во рту пересохло, зубы застучали. Не в силах шевельнуться, Мэдж уставилась широко раскрытыми глазами в черноту. Вспыхнувшее пламя погасло, и галерея вновь погрузилась во тьму. Потом стена напротив окон слабо осветилась бледно-алым светом, и сначала Мэдж подумала, что это первый признак грядущего жуткого видения, однако затем воспряла духом, догадавшись, что это луч закатного солнца пробился через густые облака.
Почувствовав прилив сил, она вскочила с дивана и увидела, как за окном догорает закат на горизонте. Но не успела Мэдж сделать и шага, как солнце вновь скрылось за облаками. Густой снег мягко стучал по стеклу, нутро камина освещали тлеющие уголья, а больше в галерее не было ни света, ни звука.
Тем не менее прилив храбрости еще не вполне покинул Мэдж, и она на ощупь двинулась к выходу. Вскоре стало понятно, что она заблудилась. Споткнувшись об одно кресло, она тут же запнулась о другое, потом путь ей преградил стол, а свернув в сторону, она уперлась в спинку дивана. Развернувшись, Мэдж увидела тусклое свечение камина совсем не там, где ожидала. Видимо, двигаясь вслепую, она нечаянно пошла в противоположном направлении и теперь уже не понимала, куда идти дальше. Со всех сторон ее окружала мебель, а миг появления чудовищных в своей невинности малышей стремительно приближался.
Тогда Мэдж стала молиться: «Господь, освети тьму нашу…» – но, сколько ни старалась, не могла вспомнить продолжения – кажется, что‐то об опасностях ночи. Одновременно с этим она не переставала двигаться, ощупывая предметы дрожащими руками. Слабое мерцание камина, который должен был находиться слева, оказалось справа, а значит, она опять развернулась в противоположную сторону.
– Освети тьму нашу… – прошептала Мэдж и повторила в полный голос: – Освети тьму нашу!
Она наткнулась на ширму и не сумела вспомнить, где та могла бы стоять. Слепо шаря руками, Мэдж нащупала нечто мягкое и бархатистое. Был ли это диван, на котором она спала? Если так, то где его изголовье? У этого дивана есть голова, спина и ноги – совсем как у человека, покрытого серым лишайником… Тут Мэдж окончательно утратила самообладание. Она заблудилась, пропала в чудовищной галерее, куда после наступления темноты не заходит никто, кроме плачущих близнецов. Оставалось лишь молиться, и голос Мэдж перешел с шепота на крик. Она выкрикивала, визжала слова молитвы, будто проклятия, слепо тыкаясь в столы, кресла и прочие приятные атрибуты повседневности, сделавшиеся такими страшными.
А потом на ее крики пришел внезапный и жуткий ответ. Торф в камине вновь разгорелся от тлеющих угольев, и в яркой вспышке света Мэдж увидела злые глаза красавца Дика, призрачные снежинки, танцующие за стеклом, и дверь, через которую, как известно, входят проклятые близнецы. Свет вновь погас, и Мэдж опять очутилась в темноте. Однако теперь она знала, где находится. Посередине галереи мебели не было, а значит, она могла добежать до двери, выходящей на площадку над парадной лестницей, и очутиться в безопасности. Латунная ручка двери в последней вспышке света блеснула, как звезда, и Мэдж знала, что сможет достичь ее за считаные секунды.
Она глубоко вздохнула, частью – от облегчения, частью – чтобы унять лихорадочный стук сердца, но не успела выдохнуть, как вновь окаменела от ужаса. С едва слышным шелестом дверь в центре галереи отворилась, и слабый свет, падавший с задней лестницы, осветил две белые фигурки в дверном проеме. Медленными, неуверенными шагами они двинулись к Мэдж. Та не видела их лиц, однако понимала, что перед ней – ужасающие призраки, не подозревающие в своей невинности о чудовищной судьбе, которую несут столь же невинной свидетельнице их появления.
С невообразимой быстротой Мэдж приняла решение: она не будет смеяться над ними и обижать их – ведь они были всего лишь малышами, когда стали жертвами жестокого злодеяния. Неужели их детские души останутся глухи к мольбе той, которая с ними одной крови и не совершила ничего, что заслуживало бы такой чудовищной кары? Если умолять их, они могут смилостивиться и не обрушить на ее голову своего проклятия – могут отпустить ее, избавив от смертного приговора или судьбы более мучительной, чем смерть.
Мгновение поколебавшись, Мэдж упала на колени и протянула к близнецам руки.
– О милые мои! Я всего лишь заснула и не совершила ничего дурного… – Внезапно она умолкла, забыв о своей беде, и всем своим нежным сердцем потянулась к ним – маленьким невинным душам, которые постигла такая жуткая судьба, что теперь они приносят лишь смерть, в то время как дети рождены нести радость и смех. Все, кто видел их, питали к ним лишь страх и насмехались над ними.
Жалость охватила Мэдж, и ужас спал с нее, словно сморщенная кожура с расцветающего весеннего бутона.
– Милые мои, мне вас так жаль! – воскликнула она. – Не ваша вина, что вы несете мне то, что должны принести. Но я больше не боюсь, я только жалею о вас. Благослови вас Господь, несчастные малыши!
Мэдж подняла голову и посмотрела на близнецов. Хотя в галерее было совершенно темно, теперь она видела их личики – бледные и нечеткие, словно слабое пламя, колышемое сквозняком. Тем не менее на личиках этих не было ни горя, ни гнева – они улыбались Мэдж застенчивой детской улыбкой. На ее глазах силуэты близнецов побледнели и растворились, словно облачка пара в морозном воздухе.
Она не сразу поднялась с колен – не от страха, а потому что была охвачена чудесным, блаженным умиротворением и не желала его нарушать. Наконец Мэдж встала и ощупью двинулась к выходу, не испытывая ни оцепенения ночного кошмара, ни подстегивающего ужаса. Очутившись на площадке, она увидела Бланш, которая поднималась по лестнице, насвистывая и помахивая коньками.
– Как нога, родная? – спросила Бланш. – Вижу, ты уже не хромаешь.
– Наверное, прошла – я и думать о ней забыла. Бланш, милая, ты только не пугайся, но я видела близнецов.
На мгновение Бланш побелела от ужаса.
– Что?.. – выговорила она сдавленным шепотом.
– Да, я только что их видела. Но они были добры, улыбались, и мне было так их жалко. Почему‐то я уверена, что мне нечего бояться.
Похоже, Мэдж оказалась права, поскольку ничего ужасного с ней так и не произошло. Должно быть, ее отношение к близнецам, жалость и сочувствие тронули их и развеяли проклятие. По правде сказать, буквально на прошлой неделе я приехал в Черч-Певерил после наступления темноты и, проходя мимо длинной галереи, столкнулся с выходящей оттуда Бланш.
– Вот и вы! – воскликнула она. – А я сейчас навещала близнецов. Они были очень милы и задержались почти на десять минут. Скорее идемте пить чай!
Гусеницы
Месяца два назад я прочел в итальянской газете, что виллу Каскана, где я однажды гостил, снесли и строят на ее месте некий завод. Следовательно, больше нет смысла молчать о том, что я видел (или воображал, что видел) своими глазами в одной комнате и на одной лестничной площадке этой виллы, а также скрывать последовавшие за этим события, которые могут пролить свет на этот случай (а могут и нет – судить читателю).
Вилла Каскана была восхитительна во всем, кроме одного обстоятельства, и все же, существуй она поныне, ничто на свете – без малейшего преувеличения – не заставило бы меня вновь переступить ее порог, так как я убежден, что на вилле этой обитали весьма жуткие и опасные сущности. Большинство призраков в конечном счете практически безобидно. Они могут напугать, однако тот, кому они являются, обычно остается невредим. И даже напротив – порой призраки бывают настроены к людям дружески и творят добрые дела. Тем не менее потусторонние существа на вилле Каскана ни в коей мере не были дружелюбны, и, если бы их явление развивалось по немного иному сценарию, не думаю, что меня ждала бы лучшая участь, чем Артура Инглиса.
Вилла стояла на поросшем падубом холме неподалеку от коммуны Сестри-Леванте на Итальянской Ривьере. Из окон открывался вид на радужные переливы сказочного итальянского моря, а за домом каштановые леса взбирались по склонам, увенчанным соснами, которые по контрасту со светлой зеленью каштанов смотрелись черными. Виллу окружал пышный сад в самом разгаре весеннего цветения. Ароматы роз и магнолий, смешиваясь с соленым морским ветерком, текли рекой по прохладным комнатам со сводчатыми потолками.
На первом этаже дом с трех сторон окружала лоджия с колоннами, крыша которой служила балконом для комнат второго этажа. Парадная лестница с широкими ступенями серого мрамора вела из холла на площадку перед этими комнатами, которых насчитывалось три: две большие гостиные и спальня с удобствами. Последняя простаивала, а гостиные использовались. Отсюда парадная лестница раздваивалась. Одна половина вела на третий этаж, где располагалось несколько спален, в том числе и моя, а другая, всего полдюжины ступенек, – к другой группе комнат, где в описываемый период художник Артур Инглис занимал спальню и студию. Таким образом, с лестничной площадки перед моей спальней видны были и площадка второго этажа, и лестница, ведущая к комнатам Инглиса. Джим Стэнли и его жена, у которых я гостил, занимали комнаты в другом крыле дома, где также находились помещения для слуг.
Я прибыл солнечным майским днем как раз к обеду. Сад дурманил ароматами цветов, и не меньшее наслаждение, казалось, должна была доставить мне мраморная прохлада виллы после прогулки под палящим солнцем от пристани. Однако едва я переступил порог, как почувствовал (читателю придется поверить мне на слово): в доме что‐то неладно. Ощущение было довольно неопределенным, но очень сильным, и я помню, как, увидев на столе в холле письма, подумал, что меня ждут дурные вести. Тем не менее письма предчувствий не оправдали – все мои корреспонденты прямо‐таки сочились благополучием. И все же такое доказательство очевидного промаха интуиции не развеяло моей тревоги. В прохладном благоухающем доме было что‐то не так.
Я специально упоминаю об этом – ведь дурным предчувствием можно объяснить тот факт, что в первую ночь на вилле Каскана мне спалось очень плохо, хотя обычно я сплю как убитый и время от тушения света до утренней побудки проходит незаметно. Этим можно также объяснить и то, что, заснув, я увидел весьма яркий и оригинальный сон (если увиденное действительно было сном). Оригинальность его заключалась в том, что моим сознанием завладел образ, до того момента не приходивший мне в голову. Но прежде стоит описать кое‐какие разговоры и события дня, которые, вкупе с дурным предчувствием, могли породить ночные видения.
Итак, после обеда миссис Стэнли показала мне дом, особо упомянув о незанятой спальне на втором этаже, примыкавшей к комнате, где мы обедали.
– Мы оставили ее свободной: у нас с Джимом, как вы видели, очаровательная спальня с гардеробной, а поселись мы здесь, пришлось бы превращать столовую в гардеробную и обедать внизу, – пояснила миссис Стэнли. – Так что мы устроили себе маленькую квартирку там, Артур Инглис занимает комнаты в другом коридоре, а поскольку вы как‐то упоминали, что чем выше ваша комната, тем вам приятнее (правда же, у меня поразительная память?), то я разместила вас не здесь, а наверху.
Должен признаться, при этом объяснении я испытал сомнение, столь же смутное, как и дурное предчувствие. Зачем миссис Стэнли пустилась в объяснения, если дело только в этом?.. Допускаю, что в голове у меня промелькнуло некое подозрение.
Другое событие, которое могло повлиять на мой сон, – краткое упоминание о призраках за ужином. Инглис с непоколебимой уверенностью заявил, что всякий, кто хоть на йоту верит в существование сверхъестественных явлений, не заслуживает называться даже ослом. После этого разговор перешел на другое. Насколько я помню, больше ничего из произошедшего или сказанного не могло привести к описанному далее.
Мы разошлись довольно рано, и я, невероятно сонный, зевал всю дорогу до своей спальни. В комнате было довольно жарко, и я отворил все окна нараспашку, впустив белый свет луны и любовные песни соловьев. Быстро раздевшись, я улегся в постель, и сонливость сняло как рукой. Впрочем, я не стал досадовать, а с удовольствием лежал, смотрел на лунный свет и слушал соловьиное пение.
Затем я, возможно, уснул, и все последовавшее было лишь сном. Так или иначе, через некоторое время соловьи умолкли, а луна зашла. Решив почитать, раз уж по неизвестной причине мне не спалось, я вспомнил, что книга осталась в столовой на втором этаже, зажег свечу и спустился. Войдя, я увидел, что книга лежит на столике для закусок, а дверь в незанятую спальню открыта и оттуда льется причудливый серый свет, не похожий ни на лунное сияние, ни на рассветные сумерки. Я заглянул внутрь.
Прямо напротив двери стояла большая кровать с балдахином, в изголовье которой висел гобелен, и на ней кишели огромные гусеницы длиной с фут, а то и больше. Их тела испускали слабое свечение, которое я и заметил из столовой. Вместо присосок, как у обычных гусениц, эти имели несколько рядов клешней наподобие рачьих, которыми цеплялись за поверхность и подтягивались, чтобы переместиться. Жуткие желтовато-серые тела были покрыты шишками и буграми разной величины. Должно быть, гусениц насчитывалось несколько сотен – они образовывали на кровати шевелящуюся извивающуюся пирамиду. Одна из них с мягким шлепком упала на пол, и, хотя тот был из твердого камня, клешни образовали в нем вмятину, словно в мягкой замазке. Упавшая гусеница заползла обратно на кровать и присоединилась к своим страшным товаркам. У них не было лиц, если так можно выразиться, но на одном конце имелся рот, открывавшийся вбок при каждом вдохе.
Внезапно твари, словно почуяв что‐то, развернулись ко мне ртами и устремились в мою сторону, падая с кровати с противными мягкими шлепками. На миг я окаменел, как в дурном сне, а затем кинулся вверх по лестнице, чувствуя голыми ступнями холод мрамора. Вбежав в свою комнату, я захлопнул дверь.
В следующее мгновение я обнаружил себя стоящим у кровати, и липкий пот струился по моему телу, а в ушах звенел стук захлопнутой двери. Я совершенно точно проснулся, однако, в отличие от обычного ночного кошмара, ужас, охвативший меня при виде отвратительных тварей, не исчез. Даже если то был сон, мне он казался действительностью, и я не мог оправиться от страха. До самого рассвета я не решался прилечь и в каждом шорохе подозревал приближение гусениц. Клешням, дробившим каменный пол, не составило бы труда расколоть деревянную дверь – даже сталь их не удержала бы.
Едва вернулся славный добрый день, ласковый шепот ветра рассеял мой страх, и безымянные существа, чем бы они ни были, больше меня не пугали. Рассветное небо, поначалу бесцветное, стало розовато-серым, и вскоре сияющее шествие света растянулось по всему горизонту.
По очаровательному обычаю дома каждый был волен завтракать где и когда угодно, так что я провел завтрак на балконе и до самого обеда оставался у себя – писал письма и прочее. Когда я спустился к обеду, все уже приступили к еде. Между моими ножом и вилкой лежал маленький картонный коробок. Инглис проговорил:
– Взгляните, вы ведь интересуетесь естествознанием. Нашел ночью у себя на покрывале. Не представляю, что это такое.
Думаю, еще прежде, чем открыть коробок, я предвидел, что там обнаружу: маленькую серовато-желтую гусеницу с причудливыми бугорками и шишками на кольчатом теле. Она очень активно ползала, и ножки ее походили на рачьи клешни. Я закрыл коробок.
– Не знаю, что это за гусеница, но выглядит она весьма неприятно. Что вы собираетесь с ней делать?
– Оставлю себе, – ответил Инглис. – Она начинает окукливаться – интересно, какой из нее выйдет мотылек.
Вновь заглянув внутрь, я убедился, что лихорадочное ползание гусеницы действительно вызвано плетением кокона. Инглис заметил:
– У нее странные ноги, будто рачьи клешни. Как по-латыни «рак»? Cancer? Если это уникальный вид, назовем его Cancer Inglisensis.
Тут у меня в мозгу мелькнула вспышка, в свете которой все увиденное во сне и наяву сложилось в некую картину, и ужас, пережитый ночью, связался со словами Инглиса, поэтому я, недолго думая, вышвырнул коробок в окно. Неподалеку от дома журчал фонтан, и коробок упал прямо в воду.
Инглис рассмеялся.
– Вот так любители оккультного обращаются с твердыми фактами! Бедная моя гусеница!
Потом беседа перешла на другие темы, и я привел это подробное описание тривиального разговора лишь с целью записать все, что имеет хоть малейшее отношение к теме оккультного или к гусеницам. Я, конечно, был не в себе, когда швырнул коробок в фонтан. Объяснить это можно лишь тем, что его содержимое представляло собой точную миниатюрную копию тех, кого я видел на кровати в пустой комнате. И хотя превращение ночных видений в существо из плоти и крови (или из чего бы ни состояли гусеницы) могло бы избавить меня от страха, на деле ничего подобного не произошло – шевелящаяся пирамида на незанятой кровати лишь сделалась отвратительно настоящей.
После обеда мы час-другой лениво прогуливались в саду и отдыхали на лоджии, а около четырех мы со Стэнли отправились купаться. Наш путь лежал мимо фонтана, в который я бросил коробок. На неглубоком дне бассейна колыхались в прозрачной воде белые останки размокшего картона, а по ноге мраморного итальянского купидона с винными мехами, из которых лилась вода, ползла гусеница. Каким‐то невероятным образом она пережила падение, выбралась из размокшей тюрьмы и теперь, недосягаемая, ползла, не переставая плести свой кокон.
Заметив меня, словно твари из сна, гусеница вырвалась из опутывавших ее нитей, сползла по ноге купидона и, извиваясь, как змея, поплыла ко мне с удивительной скоростью (не говоря о том, что удивителен сам факт существования водоплавающих гусениц). Уже вскоре она выползала из мраморного бассейна. В этот момент к нам присоединился Инглис.
– Ба! Да это наша старая знакомая Cancer Inglisensis! – воскликнул он, заметив гусеницу. – До чего же она спешит!
Мы стояли рядом на дорожке, и, оказавшись в шаге от нас, гусеница принялась водить ртом из стороны в сторону, словно не могла выбрать. Наконец, решившись, она заползла на ботинок Инглиса.
– Я нравлюсь ей больше всех, однако не могу ответить взаимностью. И раз уж она не тонет, то… – Он стряхнул тварь с ботинка на гравий и наступил на нее.
После полудня воздух сделался тяжелее и жарче из-за южного сирокко, и ночью я вновь отправился в постель очень сонный. Однако за моей сонливостью скрывалось недремлющее и даже усилившееся осознание того, что в доме неладно и где‐то поблизости таится опасность. Тем не менее я сразу уснул, а через неопределенное время проснулся (или мне приснилось, будто проснулся), чувствуя, что надо немедленно вставать или будет слишком поздно. Я лежал в постели (во сне или наяву) и пытался побороть этот страх, уверяя себя, что всего лишь стал жертвой собственных нервов, растревоженных сирокко или мало ли еще чем. Одновременно с этим другой частью сознания, если можно так выразиться, я ясно понимал, что опасность возрастает с каждой минутой промедления. Наконец это ощущение настолько усилилось, что я встал, оделся и вышел из комнаты. Увы, я медлил слишком долго: вся площадка первого этажа уже кишела гусеницами. Двустворчатые двери гостиной, к которой примыкала незанятая спальня, были закрыты, но гусеницы протискивались в щели, просачивались через замочную скважину, вытягиваясь стрункой, и вновь превращались в жирные бугорчатые туши. Одни, словно принюхиваясь, ползали по ступенькам, ведущим в коридор к комнате Инглиса, другие ползли по лестнице, на верхней площадке которой стоял я. Путь к спасению был отрезан, и ужас, охвативший меня, когда я это осознал, не поддается описанию.
Постепенно большая часть гусениц двинулась в направлении комнаты Инглиса. Омерзительной приливной волной катились они по коридору, и бледно-серое свечение уже плескалось у его двери. Тщетно я пытался кричать, стремясь предупредить Инглиса и в то же время смертельно боясь привлечь их внимание, – изо рта не доносилось ни звука. Гусеницы просачивались в комнату через щели вокруг двери, а я все делал жалкие попытки докричаться до Инглиса, чтобы он бежал, пока еще не поздно.
Наконец коридор опустел, все гусеницы уползли, и я впервые осознал холод мрамора под своими ступнями. На востоке занимался рассвет.
Полгода спустя я встретил миссис Стэнли в одном загородном доме в Англии. Когда мы обсудили все, что только можно, она сказала:
– По-моему, я вижу вас впервые с тех пор, как месяц назад получила кошмарные новости об Артуре Инглисе.
– Я ничего не слышал.
– Вы не знаете? У него рак, и врачи даже не рекомендуют делать операцию, поскольку на исцеление надежды нет – болезнь распространилась по всему телу.
На протяжении этих шести месяцев ни дня не прошло без мыслей о моих сновидениях (или как вам будет угодно их называть) на вилле Каскана.
– Ужасно, правда? – продолжала миссис Стэнли. – И я не могу не думать, что он, возможно…
– Заразился на вилле? – подсказал я.
Она взглянула на меня с изумлением.
– Почему вы так говорите? Откуда вы знаете?
После этого миссис Стэнли призналась, что за год до того на вилле умер от рака один человек. Она, естественно, советовалась с лучшими специалистами, и ей объяснили, что наибольшей предосторожностью будет оставить комнату незанятой. Конечно, там провели тщательную дезинфекцию, заново побелили потолок и покрасили стены, но…
Бесплатный фрагмент закончился.