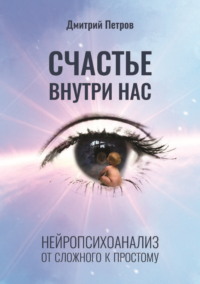Читать книгу: «Счастье внутри нас», страница 3
Это и есть переход от принципа удовольствия – к принципу реальности. Один из ключевых переходов, описанных Фрейдом. Принцип удовольствия говорит: «Я хочу – и беру». Принцип реальности говорит: «Я хочу – но сначала пойму, можно ли, когда, как, и что это мне даст». Это взросление. Это становление Я.
Это также переход от первичного процесса – к вторичному. Там, где первичный процесс – это мгновенная реакция. Это крик, плач, агрессия. Это мышление, которое ещё не мышление. Это цепочка: «мне плохо – я кричу». Или «мне страшно – я закрываю глаза, и мир исчезает».
Именно с этим приходит человек в терапию. Он может быть взрослым – по паспорту, по положению, по возрасту. Но внутри него активен первичный процесс. Он реагирует, а не размышляет. Он действует, не зная зачем. Он повторяет, не осознавая. Он попадает в петлю. В автоматизм. В сценарий, который когда-то был способом выживания – но теперь стал тюрьмой.
И задача нейропсихоаналитика – помочь ему сделать этот переход. От первичного к вторичному. От импульса – к мысли. От разрушения – к пониманию. От реакции – к ответственности.
В сфере инстинктов нет места логике. Там не нужны размышления. Инстинкт работает быстро, грубо, прямо. Он не рассуждает. Он действует. Его задача – обеспечить выживание. Немедленно. А мышление, логика, анализ – это уже инструменты другой реальности. Реальности, в которой важна не только скорость, но и последствия. Не только «спасти себя», но и «понять, что происходит».
Именно поэтому переход от первичного процесса к вторичному – это не просто интеллектуальное взросление. Это – внутренний переворот. Переход от галлюцинации к реальности. От «я хочу – и оно есть» к «я хочу – но сначала надо понять, возможно ли это, и какой будет цена».
Первичный процесс – это мышление младенца. Галлюцинаторное мышление. Я хочу – и вижу. Я чувствую голод – и появляется грудь. И в этот момент грудь для младенца не просто «пришла». Она – результат его желания. Он не различает, что мать – это другой человек. Что есть независимая реальность. Он ощущает, что желания равны результату. Это – чистый принцип удовольствия.
И если мать действительно появляется в ответ на его плач – он закрепляет этот сценарий. Мир – это я. Желание – это результат. Это глубинная эгоцентрическая схема, в которой вся реальность подчинена его влечению. Ребёнок не знает, что мать пришла сама. Он чувствует: «Я вызвал её». И это – основа первичного процесса.
Но потом наступает другое. Реальность не всегда откликается. Желание остаётся – а грудь не появляется. Страх, тревога, злость. И если в этот момент рядом есть взрослый, способный контейнировать эти эмоции, объяснить их, пережить вместе – начинается другой процесс. Вторичный. Начинается обучение законам мира.
Вторичный процесс – это уже мышление. Это уже не галлюцинация. Это не магия. Это не всесилие желания. Это понимание: мир существует независимо от меня. Он не подчиняется моим желаниям. Но я могу в нём ориентироваться. Я могу изучить его. Я могу найти способ.
Это и есть принцип реальности. Он не отменяет желания. Он не говорит: «Не хоти». Он говорит: «Хоти – но смотри, как». Он учит отсрочке. Он учит фрустрации. Он учит компромиссу. Это взросление.
Процесс становления Эго – это всегда путь между двумя полюсами: удовольствие и реальность. Это напряжение. Это не выбор одного и отказ от другого. Это танец. Постоянный. Динамичный. Без конца. Потому что ни один человек не живёт исключительно в принципе реальности. Но и никто, кроме совсем разрушенного, не живёт только в удовольствии. Все где-то посередине.
И в этом промежутке – весь путь человека. Он учится управлять желаниями. Учится понимать, что не всё возможно. Учится выбирать то, что возможно. Учится отпускать то, что разрушает. Учится мечтать – но с открытыми глазами. Это и есть развитие. Это и есть зрелость.
И когда говорим о нейропсихоаналитической модели, не отрываем это от тела. От мозга. Потому что весь этот переход отражается в анатомии. В физиологии. В химии. И в этом смысле ключевым центром, следящим за потребностями, является гипоталамус. Он – главный менеджер внутренней биологии. Он – первая точка сигнала: «внимание, что-то не так». Температура, голод, жажда, сексуальное влечение – всё это он.
Он даёт сигнал. Но ответ – не всегда автоматический. Потому что человек – не просто биологический механизм. На каком-то этапе просто гомеостаза становится недостаточно. Потребности становятся сложнее. Их удовлетворение требует контакта с реальностью. А она не всегда гостеприимна. Она может отказать.
Вот здесь и нужен разум. Чтобы не умереть от голода – но и не влезть в тюрьму за кражу еды. Чтобы удовлетворить влечение – но не разрушить близость. Чтобы быть – не разрушая себя. И чтобы жить – не превращаясь в животное.
До определённого момента всё это можно регулировать автоматически. Но организм не существует в вакууме. Температура, уровень глюкозы, соль, гормональный фон – всё это должно быть приведено в соответствие не только с внутренним гомеостазом, но и с внешними условиями. А для этого нужны системы, которые возбуждаются, активируются, анализируют, двигаются. И на определённом этапе эволюции эти системы породили нечто большее – сознание.
Вот об этом я и хочу сказать отдельно.
Сознание не упало с неба. Оно не магия. Оно – продукт. Продукт сложной нейросети, сформированной в глубинных и продолговатых структурах ствола мозга. Именно там, в верхней части ствола, находятся те участки, которые включают нас в бытие. Которые дают сигнал: «Ты здесь. Ты – это ты». И, по лучшим теориям сегодня, сознание возникло не случайно. Оно нужно. Оно полезно. Оно – инструмент выживания.
Сознание – это способ почувствовать, что происходит с организмом. Это субъективная проекция внутреннего состояния. Оно говорит: «Мне хорошо» или «мне плохо». И это – не просто ощущение. Это сигнал. Это встроенная биологическая навигация. Если тебе хорошо – ты на правильном пути. Если плохо – сворачивай.
И что самое важное: это ощущается. Не просто фиксируется, а проживается. Люди не просто понимают, что глюкоза в крови падает. Они чувствуют голод. И это чувство – и есть то, что делает сознание. Оно связывает биологическую необходимость с субъективным переживанием.
Когда человеку хорошо – это значит, что организм делает то, что повышает его шансы на выживание. Это биологически выгодно. А значит, повторимо. И хочется этого снова. Ему нравится. А значит – он будет искать это снова. И наоборот: боль, тревога, страх – это сигналы: ты в опасности. Сверни. Измени направление.
Это не просто инстинкт. Это уже субъективное «я хочу» или «я не хочу». И это очень важно. Потому что в этом моменте в организм впервые вплетается акт выбора. Он не всё решает. Но он начинает чувствовать. И через это – начинает ориентироваться.
Это и есть первая система ценностей. Не культурных. Не моральных. А биологических. Приятное – хорошо. Неприятное – плохо. На этом построен принцип удовольствия. Это первичная система оценки. Она лежит в самой основе всех человеческих реакций, ещё до морали, ещё до воспитания. До слов.
Именно на этом принципе работает ранний разум. Он не думает – он чувствует. Он не анализирует – он стремится. Это – базовая мотивационная система. Но мир слишком сложен для того, чтобы разделять его только на «приятно» и «неприятно». Поэтому природа добавила второй этаж – инстинкты. Более сложные. Более древние. И более глубокие.
Им около 200 миллионов лет. Эти инстинкты существуют у всех млекопитающих. И у человека, конечно же, тоже. Они встроены в лимбические структуры мозга, над простыми механизмами удовольствия. Это не просто «хочу – не хочу». Это целые сценарии поведения. Стратегии выживания. Модели взаимодействия.
Именно они – основной мотор поведения. Они не нуждаются в рационализации. Они работают как глубокие импульсы. Их нельзя «отменить». Их можно только осознать и научиться с ними обращаться. Понять, что они – не патология. А основа. Базис. На котором строится всё остальное.
Первый из этих инстинктов – система поиска. Её ещё называют системой желания. Это мотор. Это драйв. Это то, что заставляет человека вставать с постели, идти, искать, добиваться, пробовать. Это не «мотивация» в смысле «планов». Это внутренний огонь. Это активность, которую невозможно погасить.
Она начинается в вентральной покрышке мозга, идёт через латеральный гипоталамус, дальше – в передний мозг и даже в лобные доли. Это нейронная сеть, которая подаёт сигнал: «двигайся». А её топливо – дофамин. Именно он окрашивает всё в интерес. Именно он создаёт ощущение, что «где-то там» есть нечто важное. Именно он рождает ощущение: «я почти нашёл».
Это система, которая делает человека ищущим. Не потому, что ему чего-то не хватает. А потому, что он жив. Потому, что поиск – это и есть жизнь.
Но важно понимать: эта система – не просто стремление избегать неприятного. Это – система подхода. Система приближения. Система, которая активируется, когда возникает необходимость – и запускает движение вперёд. Это аппетит. Это ожидание. Это надежда. Это познание. Это и есть то, что делает нас субъектами действия.
Когда человек входит в новую ситуацию с интересом, когда он открывает незнакомое – активна именно эта система. Она помогает различать хорошее и плохое, даёт карту, с которой мы исследуем территорию. Это не просто рефлекс. Это уже смысл. Это зачаток того, что потом назовём мотивацией, намерением, поиском смысла.
Клинически эта система невероятно важна. Она может быть угнетена или, наоборот, чрезмерно активирована. При зависимости – она работает на износ. Человек всё ищет, но ничего не находит. Ищет стимул, не зная зачем. При психозе – она переполняет собой всё. Человек начинает видеть в каждом объекте особый смысл, тайный знак, знак судьбы. Это не просто активность. Это галлюцинаторная переработка значений.
Так же и в маниакальных состояниях. Человек не просто бодрствует. Он горит. Он включён. Он в вечном поиске. Всё – важно. Всё – интересно. Всё – имеет смысл. Мир не просто оживает – он захлёстывает. Смыслов становится слишком много. И здесь возникает уже не поиск – а дезорганизация.
Но вне клиники эта система – основа. Она делает людей живыми. Она создаёт желание. Она запускает движение. Она говорит: «Мне важен этот мир. Я хочу понять его. Я чувствую в нём что-то своё». Это и есть движущая сила разума. Не как механизма, а как субъекта. Субъекта, у которого есть отношение к миру.
Вторая система – система вознаграждения. Иногда эти понятия путают. Но между ними важное различие. Система поиска – это стремление. Движение. Аппетит. А система вознаграждения – это достижение. Это то, что происходит, когда ты получил то, что искал. Это удовольствие. Это насыщение.
Её центр – прилежащее ядро. Точнее – его оболочка. Именно туда проецируется система поиска. Это точка встречи желания и удовлетворения. Это место, где «я хочу» превращается в «я получил». Эта система управляется опиоидами. И она генерирует чувство: «мне хорошо». Не возбуждение. А насыщение. Не стремление. А полнота.
Когда она работает – люди чувствуют радость. Удовлетворение. Когда она не работает – теряют вкус к жизни. Продолжают искать – но ничего не находят. И это уже путь к зависимости. Потому что стимул есть – а насыщения нет. Вознаграждение не наступает. Или наступает, но не чувствуется.
И вот, между этими двумя системами – поиск и вознаграждение – существует тонкий баланс. Один без другого – слеп. Один ведёт – другой завершает. Один хочет – другой насыщает. Но есть ещё и третий.
Третья система – это страх. Глубокий. Телесный. Параноидальный. Тот, который возникает не из мысли, а из тела. Он не требует размышлений. Он просто запускается. Это встроенная, аппаратная реакция. Это безусловная схема: замри, беги или нападай.
Система страха – одна из самых древних. И одна из самых важных. Именно на неё действуют бензодиазепины. Именно с ней в нейропсихоанализе сталкиваемся, когда говорим о тревожных расстройствах, панике, фобиях. Но она тоже может обучаться. Она может усваивать. И в этом – её парадокс. Она не просто врождённая. Она становится избирательной. Человек может бояться не всего – а только того, что было связано с болью.
Всё начинается с безусловной реакции – с врождённого шаблона, который активируется при ощущении угрозы. Но затем, по мере опыта, эта система обрастает ассоциациями. Человек учится бояться. Учится связывать страх с конкретными объектами, ситуациями, звуками, запахами, даже словами. И, что самое важное, – разучиться этому почти невозможно.
Исследования на животных подтвердили: как только связь между стимулом и страхом сформирована, она остаётся. Префронтальные доли могут подавить её выражение. Человек может научиться не реагировать. Но сам страх – остаётся. Он под кожей. Под сознанием. И в этом – его сила. И его опасность.
В психоаналитической теории есть архетипический образ – кастрационная тревога. Это символ любого страха, связанного с угрозой выживанию, воспроизводству, базовому ощущению целостности. Это глубинный страх – быть разрушенным. Быть наказанным. Быть отвергнутым. И вся психика начинает выстраивать поведенческие сценарии, чтобы этого избежать.
Человек подавляет. Избегает. Рационализирует. Но внутри, на нижнем уровне, эта схема остаётся. И она может активироваться внезапно. Моментально. В обход мышления.
Следующая система – четвёртая – это ярость. Гнев. Это обратная сторона страха. Страх – это бегство. Ярость – это нападение. Это другой путь сохранения. Если ты не можешь убежать – ты должен атаковать.
Эта система начинается в миндалевидном теле и опускается в гипоталамус. Она родом из тех же глубин, что и страх. Но действует иначе. Страх – это «со мной что-то сделают». Гнев – это «я сделаю». Это агрессия. Это мощь. Это попытка вернуть контроль.
Раздражающий объект активирует ярость, когда он мешает получить желаемое. Когда он блокирует потребность. Это другой враг – не хищник, а препятствие. Не тот, кто причиняет боль, а тот, кто не даёт облегчения. Не «я в опасности», а «мне мешают».
Здесь важна разница между горячей и холодной агрессией. Горячая – это ярость. Вспышка. Взрыв. Это «убери это с дороги». Холодная – это стратегия. Это охота. Это расчёт. Это лев, который не злится на добычу – он просто ест.
В психиатрии это различие фундаментально. Потому что в одном случае специалисты имеют дело с аффектом, а в другом – с патологией. В психопатии, например, агрессия может быть абсолютно холодной. Без страха. Без ярости. Только цель. Только импульс. Только действие.
И, наконец, пятая система. Её называют по-разному: система привязанности, система горя, система паники, система отчаяния. Но суть одна. Это та часть мозга, которая отвечает за отношения. За утрату. За разлуку. За боль, возникающую не от удара – а от потери.
Она рождается в передней поясной извилине, проходит через диэнцефальные механизмы, уходит вниз, в то же самое серое вещество. Она опосредована опиоидами. И в этом есть глубокий смысл: та же система, что гасит физическую боль, гасит и душевную. Горе. Одиночество. Разлуку.
Это та боль, которая поднимается, когда человек теряет. Когда его бросают. Когда умирает близкий. Когда человека не слышат. Когда младенец кричит, а мать не приходит. Это дистресс привязанности. Это сердце человеческой уязвимости. И центр человеческой связи.
Это та система, которая заставляет млекопитающих держаться друг за друга. Мать – за детёныша. Партнёр – за партнёра. Стая – за стаю. Она же вызывает паническую атаку, когда теряется связь. Это не тревога. Это не страх. Это – ужас одиночества. Ужас быть брошенным.
Существует необходимость синтезировать все эти системы. Привести их к совместимости. Потому что человек – это не сумма отдельных реакций. Это не просто страх, поиск, привязанность, гнев или награда. Это не пять разрозненных программ. Это организм, который учится. Который собирает опыт. Который ищет смысл.
Поначалу всё просто. Мозг запускает безусловную реакцию. Один стимул – один ответ. Но мир сложен. Мир многозначен. И человек не может жить только автоматизмами. Он обучается. Он корректирует свои реакции. Он начинает различать нюансы. И вот здесь вступает в дело обучение – сначала на уровне базальных ганглиев. На уровне привычки. Повторения. Стереотипа.
В психоанализе это называется навязчивым повторением. Повтор – как способ пережить. Как попытка завершить. Как неосознанное стремление вернуться к тому, что не завершилось. Инстинкт – это не просто рефлекс. Это сценарий. Если страшно – убегай. Если фрустрирован – атакуй. Но со временем к этому добавляется другое. Опыт. Память. Контекст.
Человек учится бояться не только громкого звука, но и взгляда. Тона. Молчания. Учится распознавать опасность там, где её не было. И наоборот – пропускать тревожные сигналы, когда они слишком знакомы. Он запоминает боль. Формируем ассоциации. И всё это начинает повторяться. По кругу.
Вот почему Фрейд называл это повторением. И это не про память в её обычном виде. Это про память телесную. Память тела. Память реакции. Память инстинкта. Это то, что прописано не словами – а ритмом. Импульсом. Генетикой. Это то, что вы не вспомните – но обязательно воспроизведёте.
И особенно это касается материнской фигуры. Мама, которая даёт и отнимает. Мама, которая кормит – и пугает. Мама, которая улыбается – и кричит. В какой-то момент психика не справляется. Она начинает делить. Это – хорошая мама. Это – плохая мама. Это – защита. Но путь к зрелости – это признание: это одна и та же мама. Это одна и та же фигура, в которой испытываю противоположности.
Вот где начинается принцип реальности. Когда импульс перестаёт быть единственным ориентиром. Когда в поле зрения появляется неоднозначность. Когда эмоции становятся не ответом – а вопросом. Когда психика начинает выдерживать сложность.
Это и есть взросление. Это и есть переход от простого принципа удовольствия – к интеграции. К удерживанию противоположностей. К возможности сказать себе: «Я злюсь – но всё равно люблю». Это не рационализация. Это внутренняя революция. Это перестройка эмоционального аппарата.
Человек думает, что управляет собой. Но чаще всего – это реакция. Человек – повтор. Человек – бессознательное воспроизведение схем, которые выучил в детстве. И даже не выучил – унаследовал. Это филогенетическая память. Это инстинктивные шаблоны, которые передаются как коды. Если бы их не было – человечества бы не было. Мы бы не выжили.
Поэтому наша психика построена на повторении. Но зрелость – это умение не быть этим повторением. Это умение видеть его. Узнавать. Осознавать. И, может быть, впервые – не пойти по той же дорожке. А остаться. И выдержать. И выбрать по-другому.
Именно в этом я сегодня попытался описать функциональную организацию психического аппарата. Как она связана с мозгом. Как она встроена в структуру. Как она развивается. И как она делает нас теми, кем мы являемся. Не просто организмами. А существами, которые чувствуют. Которые помнят. Которые повторяют. Но могут – если получится – выйти за пределы повторения.
Глава 2
Как воспитать умного ребенка?
Воспитание умного ребенка с точки зрения нейропсихоанализа – это не просто передача знаний, а создание нейронной симфонии, где каждый опыт, как нота, формирует гармоничный и устойчивый интеллект. Упустишь дирижерскую палочку в детстве – потом не соберешь оркестр гениальности.
Дмитрий Петров
Довербальное развитие младенца
Откуда рождается психика взрослого человека
Ко мне обращаются не только взрослые, но и родители с детьми. И дети эти – не всегда малыши в колясках. Это и подростки, и юноши, и взрослые уже люди – до 35 лет, а иногда и старше. Но независимо от возраста, боль всегда звучит одинаково. Она о том, что происходит что-то невыносимое. Что-то, с чем невозможно справиться. И первое, что я спрашиваю у родителей – всегда одно и то же:
– Есть ли для вас разница между переживанием за своего ребёнка и сопереживанием ему?
И знаете, что чаще всего я слышу в ответ? Неловкую тишину. Непонимание. Удивление. Смущённую улыбку. Это простой вопрос. Но он бьёт в точку. Потому что одно – это страх за себя, за свою родительскую идентичность. А другое – это способность быть рядом с ребёнком в его реальности, не подменяя её своей.
В этой главе книги начнём узнавать, что такое психика ребёнка. Как она появляется. На чём держится. Как становится взрослой. И как, однажды, начавшись в теле младенца, она будет управлять человеком всю жизнь – если не осознаем, как именно это происходит, чтобы научиться управлять.
Тема эта огромная. Бескрайняя. Поэтому я не буду сейчас углубляться в мельчайшие детали, в клинические особенности, подтипы и шкалы. Я расскажу на языке, который будет местами простым, а местами, может быть, не очень. Потому что буду говорить о вещах, которые буквально формируют фундамент психической жизни человека.
Большая часть информации, с которой вы познакомитесь, взята из современных научных источников. Из нейробиологии. Из исследований, за которые вручали Нобелевские премии. Это не теория – это биология. Это то, как вы устроены. И как устроены ваши дети.
Часть 1. Довербальное развитие младенца
Начнём с самого начала. Что такое мозг?
Мозг – это не просто серое вещество в черепной коробке. Это миллиардная сеть из нейронов. Сто миллиардов нейронов, если быть точным. И эти нейроны не живут поодиночке. Они не умеют работать в одиночку. Их смысл и сила – в соединениях. В связях. В цепях и сетях. Именно через них они общаются друг с другом. Именно через них рождается всё: движение, память, эмоция, речь.
Часть этих связей задана генетически. Например, работа сердечно-сосудистой системы, терморегуляция, дыхание, гормональный фон – всё это идёт по заранее встроенным маршрутам. Это основа, выданная природой.
Но всё остальное, всё, что делает людей уникальными, – каждый человек строит сам. В течение своей жизни. Из оставшихся нейронов. Из опыта. Из эмоций. Из реакций. Из потребностей. И другой такой нейронной сети, как у вас – не существует.
Что же запускает эти соединения? Что толкает нейроны искать друг друга?
Потребность.
Одна из самых глубинных тем в нейронауке – это нейрофизиология потребностей. То, о чём писал Абрахам Маслоу, имеет под собой не только психологическую, но и чисто биологическую основу. Потому что каждая потребность человека – от самой примитивной, как голод, до самой сложной, как любовь или смысл – запускается изнутри, из определённых зон мозга. Эти зоны эволюционно закреплены. Эти программы встроены в нас задолго до рождения.
Они «инсталлируются» в мозг плода уже в утробе. Это инстинктивный код. Это язык наших нейросетей. Речь идёт о потребности в безопасности, в пище, в исследовании, в заботе, в тепле, в контакте.
Каждая из этих потребностей запускает определённое поведение. Малыш голоден – он кричит. Малыш боится – он прижимается. Малыш чувствует интерес – он тянется и ползёт. Это не осознанно. Это программа. И если поведение приводит к результату – появляется позитивная эмоция. «Получилось».
А если нет? А если не получилось, или ещё хуже – если потребность даже не была распознана?
Тогда в мозге накапливается напряжение. Энергия. Негативная эмоция. Она не исчезает. Она сохраняется в специальных зонах мозга. Она ждёт. Она будет жить внутри до тех пор, пока не получит возможность быть отыгранной. Найти выход. Найти смысл. Быть означенной. Это не поэзия. Это физика. Энергия должна перейти в работу. Эмоция – это всегда маркер того, насколько успешно потребность была удовлетворена.
И это – начало формирования психики. Не из мыслей. Не из слов. А из напряжений, попыток, удач, неудач, и того, как на них реагирует мир.
Развитие младенца начинается задолго до того момента, как он сделает первый вдох. Оно начинается ещё до его рождения – в глубинах тишины материнского тела. Уже на втором месяце внутриутробного развития эмбрион способен реагировать на прикосновение. К концу третьего месяца он нащупывает позу, в которой ему удобно быть, а к четвёртому – он уже двигается. И да, он слышит. Он слышит мир. Он слышит голос матери, доносящийся изнутри, голос отца, проникающий сквозь ткани и шумы, но главенствующий звук – это ритм сердца. Это биение. Постоянный, живой метроном, сигнал безопасности. Пока сердце бьётся ровно – всё в порядке. Пока оно не сбивается – жизнь возможна.
Именно в эти недели формируется фундамент – не просто тела, но всей психики. И этот фундамент не принадлежит только ребёнку. Он общий. Он общий с матерью. Потому что психика ребёнка на этом этапе ещё не автономна. Она формируется в тандеме. Она буквально инсталлируется через мать. Через её эмоциональные состояния. Через её страхи, её радости, её тревоги. Через то, как она чувствует.
И вот здесь начинается то, что большинство даже не подозревает. Мать – без своего на то ведома – начинает возвращаться в своё собственное младенчество. В третий триместр беременности женщина проходит внутренний путь назад. Неосознанно. На уровне глубинных слоёв своей психики. Её мозг вытаскивает наружу – в мягком, почти медитативном режиме – то, что было запечатлено в её собственном перинатальном опыте. Потому что только так она может подготовиться к пониманию младенца. Только так она сможет быть с ним синхронной в невербальном мире.
Если этот её опыт был травматичным, если нейронные сети, отвечающие за раннюю регуляцию, были сформированы хаотично или с дефектом, то она не сможет по-настоящему понять своего ребёнка. Она будет рядом, да. Она будет любить, может быть, даже сильно. Но это не та любовь, которая утешает. Это будет эмоциональная связь, но лишённая устойчивости. Без той самой надежности, предсказуемости, постоянства, которые так отчаянно нужны ребёнку в первые месяцы жизни.
Что делает малыш в такой ситуации? Он остаётся с тревогой один на один. А она – невыносима. Настолько, что он вынужден защищаться. Единственный доступный способ – разделить нейронные сети, как бы раскидать тревогу по разным частям мозга, снизить её мощность. Это биологическая защита. Но это и корень будущей диссоциации. Это начало множества личностей внутри одного тела. Это начало возможности диссоциативного расстройства.
А если тревога достигает слишком высокой амплитуды, если мама, сама испуганная и нецелостная, буквально возвращает ребёнку его же страх, ещё приправляя его своим, уже взрослым, тогда всё становится ещё страшнее. Потому что тогда – на чисто биологическом уровне – психика малыша принимает решение: «так выжить нельзя». И она начинает уничтожать. Она начинает сжигать. Она разрушает нейроны, которые передают эту невыносимую боль. Это не выбор. Это не болезнь. Это – способ спастись. Цена – аутизм.
Это происходит тихо. Без криков. Без слов. Никто не замечает в моменте. А потом, когда ребёнок «не такой», когда он не смотрит в глаза, когда не реагирует на голос, – уже поздно спрашивать, что случилось. Это случилось тогда, когда взрослые ещё не подозревали, что с ребёнком уже всё происходит.
Средний мозг. Самый маленький из всех, всего два сантиметра длиной. Его легко упустить из виду, особенно в контексте грандиозной архитектуры человеческого мозга. Но это – та самая крохотная структура, без которой психика человека просто не смогла бы состояться.
Если сравнить: продолговатый мозг – три сантиметра, мост – тоже три. А вот средний мозг скромно втиснулся между ними, расположившись между мостом и промежуточным мозгом. Он крошечный, да. Но по своей функции – фундаментальный. Он относится к стволовым структурам мозга – тем самым, что первыми включаются в работу, когда жизнь только зажигается, и последними гаснут, когда она уходит.
Внутри этого двухсантиметрового участка расположены нейроны, которые отвечают за базовые, но глубочайшие вещи. Контроль воли. Контроль эмоций. Реакции, обеспечивающие выживание. Та самая мгновенная реакция – уйти от опасности – закладывается именно здесь. Страх. Самозащита. Инстинкт.
И неудивительно, что именно эта система – система страха – начинает созревать одной из первых. Её локализация – в промежуточном мозге, чуть выше среднего, но их работа неразрывно связана. Средний мозг выступает как стартовая площадка, как точка фокусировки. Мы не осознаём, как именно в самые первые месяцы, а иногда даже недели жизни, впитываем в себя карту опасностей мира. Ребёнок учится бояться без слов. Без объяснений. Просто на уровне ощущений. Эти первые фрагменты опыта становятся эмоциональной географией – базовыми координатами безопасности и тревоги.
Теперь – внимание. Сейчас мы сделаем шаг в сторону очень хрупкой темы. Психопатологии. Тех состояний, о которых часто говорят шёпотом. Таких, как аутизм. И вот здесь маленький средний мозг неожиданно выходит на передний план. Потому что именно в его структуре начинает формироваться одна из важнейших способностей человека – эмпатия. Не сочувствие. Не жалость. А способность чувствовать другого. Увидеть другого. Считывать другого. Понимать без слов.
Эта зона эмпатии начинает созревать рано, но окончательно формируется к 10–12 годам. Именно она в будущем станет нашим эмоциональным навигатором. Тем, кто скажет человеку, где больно, где страшно, а где – по-настоящему хорошо. Где человек, а где – угроза.
В анатомии это называется четверохолмьем. Удивительное слово. Его можно было бы сравнить с каким-то древним архитектурным термином, но это – часть твоего мозга. Сенсорные центры. Самые первые, эволюционно. Передняя пара холмиков – зрение. Это то, как мозг реагирует на зрительные сигналы. И именно здесь кроется объяснение, почему ребёнок с расстройством аутистического спектра не смотрит в глаза. Потому что глаза – это мощнейший стимул, это концентрация изменений, это контакт, который требует огромного внутреннего ресурса, особенно если тревога не утихает.
Всё начинается с этих зрительных нейронов. Им, по сути, всё равно, что вы видите. Главное – что что-то изменилось. Движение. Контраст. Мелькание. Это – сигналы новизны. И мозг немедленно реагирует. Поворачиваются глаза, следом – голова, а за ней – всё тело. Это древнейшая реакция, рожденная миллионами лет эволюции. Любопытство. Любопытство как инструмент выживания.
Ребёнок, у которого нарушено взаимодействие с этим уровнем мозга, не может “удерживать” взгляд, но может часами рассматривать спицы колеса, которые крутятся. Или водить пальцем по краю предмета. Потому что эти элементы активируют зрительные детекторы новизны. Они простые. Они понятные. Они дают мозгу ощущение контроля. И самое главное – они хоть как-то помогают справляться с фоновым, почти всегда присутствующим уровнем тревоги.
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе