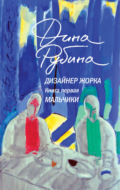Читать книгу: «Дизайнер Жорка. Книга вторая. Серебряный рудник»
В оформлении обложки использованы репродукции картин Бориса Карафёлова
© Д. Рубина, текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026
* * *
Часть первая
Девочка
С годами всё реже снится сон: молодая летняя ночь, ледяная луна в чёрном небе жарит так, что глазам больно. И они, Лида с отцом, стоят на горной, мерцающей в лунном свете тропе.
«Здесь когда-то серебряная жила из горы выходила, богатейшая, – говорит отец. – Слитки давно выбрали, рудник заглох… – и усмехается, качает головой: – По этой дороге лет сто, наверное, руду перевозили. Толкаешь тяжеленную тачку, не смотришь, что на землю просыпалось…»
И правда: дорога сияет, как дорогая парча, свивая меж гор голубые змеиные кольца. Где-то на порогах громыхает река, травный воздух аж звенит в висках, звёзды дробятся и вспыхивают, одна ярче другой, и кажется, что небо ходуном ходит, а серебряная дорога рвётся ввысь: вскочи на неё, и до самой луны добежишь.
Лида опускается на корточки и, как землянику в лесу, собирает в пригоршню крупицы серебра, ссыпая их в карманы своего «ромашкового» платья, а подняв голову, замечает, что и папино лицо светится под луной.
«Папа! – говорит она, замирая от восторга, – у тебя серебряное лицо!» И плачет в счастливой сновидческой яви: она-то считала, что отца давно нет, а вот же он, стоит, улыбается!
Странно… Отец умер так давно, а сон этот всё мучил её временами. И больше всего озадачивало папино лицо: оно постоянно менялось в дымном свете бегущей луны, хотя и неизменно сияло ей благостной улыбкой, как лики святых на иконах. Ох, папа, ты был так далёк от святости! Впрочем, вся твоя жизнь связана с иллюзиями…
На этом горном перевале давнего сна она всегда просыпалась в слезах, и всегда в объятиях, которые не спутала бы с другими. Удивительно, как он успевал услышать её скулёж, мгновенно очнуться и крепко притиснуть её к себе.
«Хазарин, – говорила она, елозя мокрой щекой по его груди. – Как ты слышишь, что я плачу во сне?» «Да я же весь в луже, – отвечал он, – тут попробуй не проснись».
Это была его шутка, а шутил он не часто. Не располагал к веселью ни склад его характера, ни крой внешности: резкие носогубные морщины у рта, вертикальная трещина между бровями, крупный нос с широкими ноздрями и жёсткие усы «колхозника», которые, несмотря на её уговоры, он не желал сбривать из-за шрама на верхней, зашитой в детстве губе.
Она и сама с ним почти не шутила. Весела она бывала только с Агашей.
С Агашей всегда было так потешно! Вечно им на глаза попадались забавные люди, и вечно сами они становились героями дорожных анекдотов. Он вступал в разговоры с первыми встречными идиотами, разыгрывая персонально для неё целые спектакли. У него были явные способности комика, и при ней он эти способности запускал на всю катушку, – так юнец в азарте выжимает из своего мотороллера бешеный рёв.
С первой минуты, как он сжимал её в свирепых объятиях с этим «бармалейным» выражением лица, праздник жизни распахивал кулисы: всё складывалось идеально, всё подворачивалось вовремя, они всюду успевали. В захолустной лавочке сельской Англии или на повороте дороги горной Испании обнаруживалось нечто поразительное; в любой харчевне, выбранной им, оказывалось изумительно вкусно, а на развалах блошиного рынка португальского городка он выторговывал у местного старика почерневший подсвечник за двадцать эскудо, и после основательной чистки на том проступала кудрявая монограмма с гербом Жуана V Великодушного.
Вообще, они были яркой обаятельной парой, это и случайные попутчики отмечали: «Вы такая красивая пара!»
Когда она рассказывала свои «истории из детства» – эти по-своему грациозные, хотя и дикие, как из фильмов ужаса, «страшилки бухарской махалли», – Агаша хохотал, крутил кудрявой головой и влюблённо говорил: «Брешешь!» Она топала ногами, грозно тараща глаза, но не выдерживала, сама покатывалась со смеху. Падала на спину, разбрасывая руки во всю ширину кровати, подставляя лицо, шею, грудь под его губы…
Им так весело, так легко было вдвоём!
…Тогда почему, чёрт возьми, в конце восхитительного путешествия или уже по возвращении «домой» (где бы этот дом ни находился) она тайком убегала на ближайшую почту и там, покусывая карандаш, писала короткую вопящую телеграмму из одного слова: «Хазарин воскл. воскл. воскл». (С наступлением эры всепланетной достижимости просто выкатывала в телефоне длинный ряд грустных эмодзи с опущенными уголками рта и крупной слезой на скуле.)
И тогда тот, другой, – не смешной, не забавный, – срывался и приезжал туда, где предполагал, вернее, вычислял их застать.
Добравшись, никогда не стучал, никогда не звонил в дверь, подолгу стоял, с мучительным сердцебиением вслушиваясь в голоса по ту сторону своей тоски. Затем сбегал по лестнице вниз и часами следил из-за угла, в стиле бездарных детективов, дожидаясь, когда Агаша выйдет из подъезда, сядет в машину и стартует в рабочий день. Тогда одним махом взлетал по пролётам лестниц и неотрывно жал на кнопку звонка или с размаху бил кулаком в дверь, будто хотел её проломить. Та распахивалась, и… заплаканная, повинная Лидия бросалась ему на грудь со сдавленным воплем «Хаза-арин!!!».
Её рюкзак обычно бывал уже сложен: она и сама неплохо высчитывала, сколько часов займёт его путь. Оставалось лишь подхватить, стащить её, всю в покаянных слезах, по лестнице, загрузить в машину и вдарить по газам…
…Зачем, впрочем? Зачем – по газам, спросим мы с печальной улыбкой. Что за спешка, что за надрыв? Агаша никогда не пускался в пошлую погоню. Он только напивался в этот вечер до соплей или до драки с кем-нибудь невинным, кто случайно подвернётся под руку, или до презрительного монолога перед зеркалом. А больше и ничего, совсем ничего. Навсегда.
Это и было его настоящее единственное «навсегда». Ибо одна только ненависть выжигала его нутро. Эта ненависть диктовала ему короткое решительное письмо – не проклинающее, боже упаси, будь проклят тот, кто проклинает женщину! – отпускающее: прощай, моя радость, и так далее. Но только прощай уже наконец, проклятая тварь расписная, дьяволица рыбнадзорная. Моё мучение, моя девочка, моя неизбывная любовь…
Глава первая
Отец и дочь
1
Бабка, рыжеволосая голубоглазая казанская татарка, была красивой до оторопи. На довоенном фото – просто Марлен Дитрих, и брови так же высокомерно вздёрнуты, и губы прорисованы бабочкой.
Двенадцати лет её выдали замуж за ташкентского муллу, второй женой.
– Ты же говорила – четвёртой! – возмущённо кричит Лида тётке Анжеле. – Что ж ты показания меняешь!
– Какие показания, – отмахивается та, – тоже мне, следователь. Да и какая разница – вторая, четвёртая. Главное, у неё, у Эльвиры нашей, были прекрасные отношения со свекровью и со старшей женой. Она ещё и покрикивала на них, если что не по ней.
Папину сестру – тётку Анжелу – хлебом не корми, дай потоптаться на живописной биографии бабки Эльвиры. Ещё бы: это ведь бабка «с другой стороны», со стороны Лидиной мамы. Ух, и ревнивая тётка Анжела! Она якобы о бабке рассказывает, но невзначай, нет-нет и маму заденет, с этим своим елейно-смиренным «Ирочка-покойница…». Лида всё это ненавидит, но тётку не прерывает. Это как расчёсывать укус комара: мучительно, но оторваться невозможно.
– А мулла был человеком просвещённым, хотя и рассеянным, увлекался астрономией, суфизмом, и, если начистоту, у него и до первой-то жены руки не доходили.
– Руки…
– Не придирайся к словам! Короче, не трогал он девчонку до её женского возраста, учил математике и арабскому. Подарил велосипед.
– Что?! Как… велосипед? – Лида теряется. Представить себе, как девчонка гоняет на велосипеде по дореволюционному Ташкенту, она не могла, хоть режьте. – Разве в те времена были велосипеды? У муллы?
Были-были, оказывается. Именно у муллы был такой вот велосипед, фирмы Rover, с двумя колёсами одинаковой величины, с цепной передачей на заднее колесо, выписанный из Бирмингема английским инженером, работавшим на одной из туркестанских текстильных фабрик. Возвращаясь в свой Бирмингем, этот «мистер-твистер-инженер» (имя затерялось за ненадобностью и непроизносимостью) подарил велосипед мулле, с которым все эти годы вёл продолжительные и мудрёные богословские диспуты. Мулла же, будучи знатоком Закона, но человеком мягким и добрым, посадил на велосипед свою вторую девочку-жену – пусть, мол, катается пока малышка!
– До женского возраста? – уточняла Лида.
– Ну да, – легко отзывалась тётка Анжела, снимая шумовкой мясную пену и стряхивая её в мысочку, эмалированную, голубенькую, слегка прокажённую: с двумя сколами эмали на боках. – Пусть, мол, ребёнок катается, пока краски не показались… Но она и позже плевала на всех и продолжала гонять на велике по всему городу. Такая без-ля-ля-берная! И мулла ей был не указ.
Тётка Анжела живёт в доме своих родителей, в огромном дворе, в старой махалле, где и папа вырос. «В дедовском и отчем доме!» – подчёркивает она. Папа не захотел тут жить «после трагедии», а тётка сказала: где-то же надо жить, мать вашу, почему не в дедовском доме, среди собственных детских воспоминаний?
– И никакой мне трагедии-шмагедии, точка! – раздражённо добавляет она в сотый раз, но сразу и спохватывается: – Господи, что это я! Трагедия, конечно, немалая – вот так за месяц обоих родителей потерять, но я о Генкиных бреднях. Это всё его манера: Эсхил, Софокл, Еврипид… Рок всемогущий. И давай страсти-мордасти по сцене размазывать. Нормальный мужчина пойдёт сегодня в театральный институт?
– Театрально-ху-до-жест-вен-ный!!! – возмущённо кричит Лида. – Не передёргивай!
– Ну, художссный, не ори… – И поясняет слегка виновато: – Мама, конечно, умерла рано. Пятьдесят два года, эт совсем не возраст. Но рак ведь тебя не спросит. Болезнь лютая: она твоим мнением не интересуется, ни с кем не сторгуется, всех подгребает. Намучилась мамочка, бедная, что там говорить, и нас всех намучила. Так что, когда ушла, все скорбели, но с лёгкой душой: судьба есть судьба, с ней не поспоришь.
– А дедушка Паша тоже с лёгкой душой скорбел? – с невинным видом спрашивает девочка. Подбирается с тылу: сейчас ка-а-ак врежет: – И с лёгкой душой утопился?
Пусть тётка покрутится, пусть поорёт, размахивая шумовкой.
Но та начеку, пройденный материал вызубрен назубок.
– Что ж ты душу грызёшь, а?! – вскрикивает она. – Папа плакал, да, горевал… Но он был жизненным весёлым человеком. Какие он маме стихи сочинял – уписаешься со смеху: «Убери свой нос! Дай мне пройти! Твой нос лежит! На моём пути!..» – Тётка приближает к Лиде собственный немалый нос, унаследованный «от мамочки», и грозно чеканит каждое слово: – Да за ним бабы в очередь уже стояли – скорей окрутить вдовца. Верно говорят: уходит муж – остаётся вдова. Уходит жена – остаётся жених.
Она умолкает. Но с Лидой шутки плохи.
– И?! – подгоняет девочка. – Чего ж он ждал, наш весёлый дед? Для чего в тот арык полез, с каменюгами за пазухой?
Ну, это она зря… Это она палку перегнула, конечно. Сейчас тут такое начнётся! И да, начинается:
– Да он на рыбалку поехал!!! – кричит тётка Анжела. – Он же рыбак был очумелый! И всегда на тот арык ездил! Всё же просто, зачем сплетни разводить: крючок за корягу зацепился, папа вошёл в воду отцепить его, поскользнулся, ударился о камень головой, потерял сознание и… и всё! – кричит она.
– Ну да. Это он от рассеянности нагрузил всю пазуху камнями, чтобы не выплыть.
– Всё, я сказала! И чтоб больше не слышала я тут этих греческих трагедий!
«Тут» – это конкретно в родительском дедовском доме, полном воспоминаний и, – добавляет девочка мысленно, – греческих трагедий.
* * *
Кирпичный солидный дом, на совесть и радость построенный Лидиным прадедом, понтийским греком Николаусом Позидисом, был по-прежнему самым основательным строением в огромном суматошном дворе бухарской махалли. Одна его балхана чего стоила! Просторная, как палуба Колумбова фрегата. На ней и свадьбы, и дни рождения, и поминки справляли. Бабушка Маня, покойная Мануш Аршаковна, когда-то варила-жарила здесь на керогазе, зорко посматривая сверху на океан дворовых событий и интриг.
Стряпать тётка Анжела давно перебралась в кухню, – для чего же та существует, в конце концов? – ещё с тех пор, когда весь двор перевели на газовые плиты с привозными баллонами. Да и готовить здесь было одно удовольствие: большая, квадратная, белённая известью в три слоя, с круглым столом посередине, эта кухня давно уже стала центром жизни дома. Муж тётки, дядя Арон, перетащил сюда печь-голландку, ту самую, дедовскую, чёрной лакированной красы. Вот только ножки её узорные прогорели дочиста, и однажды ночью печь рухнула плашмя со страшным грохотом, зацепив и погубив царскую люстру из приданого бабушки Мани – ту, бисерную, с золотом, с абажуром, как кринолин бального платья, чей дроблёный свет рассыпался по комнате радужным веером, а если окна открыты, так и вся комната под лёгким ветерком крутится на оси дивной радужной каруселью.
Печку подняли как миленькую и поставили на столбики кирпичей. И она по-прежнему сияет чёрным лаком на фоне белёной стены. Прибегая к тётке Анжеле, Лида первым делом мчится в кухню и запрыгивает на высокий табурет с подложенной под худющую попу стёганой плоской подушечкой – это её законное место. Печь за спиной зимами излучает волны тепла, словно чьи-то нежные сильные пальцы гладят тебя от затылка до поясницы, ласково перебирая волнистые пряди рыжевато-каштановых волос.
* * *
Биография бабушки Эльвиры, излагаемая тёткой Анжелой столь вольным стилем, разворачивалась далее примерно так: после революции муллу она бросила.
– Почему бросила?
– Да время такое было. Женщины свободы захотели, снимали паранджу, бросали мужей. Тогда, знаешь, это легко было: сегодня записалась с одним, назавтра развелась, с другим записалась… В общем, она бросила муллу и записалась с красным аскером.
Лида расстраивалась: выходит, бабке Эльвире мало было свободы на велике по Ташкенту раскатывать, хотя она была не кто-нибудь, а супруга муллы (между прочим, как это будет по-русски: муллица?). Это что ж за благодарность такая: прямо с седла даренного мужем велосипеда прыгнуть в объятия постороннего мужчины, которого она, возможно, и углядела-то с высоты седла того велосипеда! А как же мулла, с его математикой и арабским?
– Велосипед прихватила с собой? – уточняла девочка. Она с детства демонстрировала удивительную житейскую практичность.
– Ох, чего не знаю… Погоди, тут у меня ответственный момент, лук и морковь. Знаешь, когда в бульон кладут лук и морковь?
– Как закипит.
– Точно… А чем заправим сегодня: макаронами или рисом?
– Надоели твои макароны, давай рис.
– Ладно… – В хозяйстве тётка Анжела была покладистой, никогда не возражала. – На чём я остановилась? Да, она вышла замуж за красного аскера. Сильно пил красный аскер и поколачивал её, дай боже, так что в конце концов она и аскера бросила… А в Ташкенте тогда гремела Тамара Ханум. У неё хор, оркестр, то-сё… О них даже в журнале «Безбожник» писали. И Эльвира там у них пела-танцевала, хотя училась уже на медсестру. Тамара Ханум скакала, как призовая кобылица, от ордена к ордену – знаешь почему? Она выдавала себя за узбечку, хотя узбечкой не была.
– А кем?
– Она армянкой была, как моя мама Мануш Аршаковна, твоя покойная – светлая ей память! – бабушка. И вот знаменитая Тамара Ханум чуть не первая сняла с себя паранджу, а это поначалу было опасно, Лида, за это можно было и нож в спину получить. Снять паранджу? Это всё равно как снять трусы.
Лида представляла себе Тамару Ханум, в задумчивости переводящую взгляд со снятой паранджи на снятые трусы, и хохотала, остановиться не могла.
– Погоди… А красный аскер? А велосипед?
– Так, лук-морковь положила, лаврушку сунула, корень петрушки… – бормотала Анжела. – Какой аскер, забыли о нём, слушай, сколько можно! На вот, начисть мне три картофелины… да не тем ножом, балдуся, тот затупился, напомни сказать сегодня Арону, пусть наточит… Ну вот: в тридцатых её направили в Ленинград, в Первый мед, учиться на врача. Там она расцвела, как роза. Снова вышла на минутку замуж, родила твою мамочку Иру-покойную, дунула-плюнула-разошлась… Вообще, мужиков меняла, как стоптанные тапочки. Видала её молодую карточку? Ух, она ж и красивая была, Эльвира, лицо – как писаная икона…
Следующие слова надо было пропустить, Лида их наизусть знала и ненавидела. Но закрывать уши было странно и невежливо, тётка Анжела никого не желала обидеть, наоборот. Следующие её слова были непременно такими: «Её дочка единственная, мамочка твоя, Ирочка-покойница, и вполовину такой красавицей не была».
Если начать, громко стуча, переставлять на столе тарелки-ножи-вилки, слова не то что пропадают, но приглушаются. Всё. Сказала. Проехали… Такая-не такая… Кто её отмеряет, ту красоту, и кто там первые места присуждает?! Вот Лида, например, вообще уродина: пошла в дедову греческую родню – рыжая, конопатая, тощая, как отец. В общем, ехал Грека через реку. А тётка Анжела, наоборот, в свою карабахскую родню, в свою мать, Лидину бабушку Мануш Аршаковну: маленькая, круглая, горящие чёрные глаза, сросшиеся брови, орлиный нос. И хозяйственное желание разобрать родню и соседей по косточкам. Татарско-казанская бабка Эльвира, копия Марлен Дитрих, всегда стоит первой в этом ряду.
И будто услышав в голове племянницы то самое «разобрать по косточкам», тётка Анжела достаёт из буфета мы́ску и ещё из горячего холодца в огромной кастрюле на плите выуживает мослы. Вываливает их в мы́ску и пододвигает к племяннице:
– На, разбери косточки… поглодай. Не обожгись!
Вот! Это то, ради чего прибежала сегодня девочка. Холодец-то тётка ещё вчера поставила, ну и после школы Лидуся решила: пора. Во-первых, она ужас как обожает обгрызать косточки, долго-старательно высасывая трудолюбивым языком горстку нежного костного мозга, обгладывая нити сухожилий, прикипевших к мослам. Во-вторых, ей нужно пополнить запас «альчошек» – альчиков, попросту мослов. Это надкопытная или таранная кость овцы-барана, папа объяснял, он изучал анатомию в Ташкентском театрально-художественном институте у какого-то Рубина, чьё имя произносит с придыханием: «У Ильи Давыдыча». Говорил, что тот анатомию знает, как бог! Бог, думала Лида, анатомию человека, само собой, знать обязан: он же её и прикумекал, разве нет?
А мослами играют мальчишки в искусную, прямо виртуозную игру типа расшибалок. («Виртуозная» – тоже папино слово, вёрткое и жалящее, как оса. Великолепное слово, надо вставлять его почаще.)
Сама Лида в альчошки не играет, хотя и не прочь попробовать – она меткая, и рука у неё, говорит папа, «твёрдая, как резец». Но в альчошки и лянгу почему-то играют только пацаны. Девочки играют в общенародные игры: прятки-догонялки, чижик и лапта, «море волнуется», «штандарт» и «гальки» (это когда гоняют по асфальту круглые разнокалиберные коробки: маленькие – из-под сапожного крема – или большие, особо ценные, – из-под ландрина или монпансье).
Но обглоданные, вымытые и выжаренные под солнцем на жестяном подносе альчошки всегда должны лежать в кармане платья или штанов. Ничего, они уже не воняют, зато это выкуп – на случай, если дорога лежит через чужой гузар и на пустыре перед тобой возникает кодла подростков с воплями: «Татар-боласы, полна жопа колбасы!..»
Тогда надо вынуть из кармана пригоршню альчошек, небрежно так подкидывая их на ладони. Бросишь мальчишкам в пыль три-четыре кости, они кинутся подбирать и драться. А ты себе спокойно проходи. Так в фильме «Полосатый рейс» артист Леонов скармливал тиграм сосиски, попутно протискиваясь к двери.
Это стало её первым серьёзным заработком: роспись альчошек. Не любых, а крупных, особо ценных, – их называли «лобаны». Она процарапывала рисунок толстой иглой, потом углубляла линии гравировальной спицей – её подарил папин приятель, ташкентский скульптор Мишаня Костиевский, к которому они часто наезжали в гости. Он же выдал девочке кусок алмазной шлифовально-полировальной шкурки, а это уже нешуточное производство, настоящее творчество. На боку лобана, на алыче, или на его торце, тагане, Лида выбивала рисунок: скорпион или змея в стиле японских иероглифов, – заливала его чёрной тушью, и та долго держалась, придавая лобану дорогой и старинный вид.
Пацаны за её расписными альчошками в очередь выстраивались! Продавала она их по рублю, быстро богатела и уже прикидывала, во что вложить наличный капитал, который зашивала в подушку: свёрнутые трубочкой рубли и трёшки, вкрученные в круглый пустой пенал. За полгода накопилось пятьдесят семь рублей – бешеные деньги! На них что хочешь затевай: можно разводить породистых щенков, например…
Но бабка Эльвира, случайно, при смене белья нащупав заначку, провела расследование и подпольный бизнес разнесла по кочкам, обозвав Лиду «базарной торговкой». «Учиться ты должна! У-чить-ся! Мозги тренировать!».
«…И кататься на велосипеде», – про себя добавила девочка, столь беззастенчиво ограбленная собственной бабкой.
(Но вкус к накоплению капитала, интерес к таинственному росту клеток живой денежной массы, набухавшей, как тёплое дрожжевое тесто, как плод в чреве матери; удовольствие от складывания рублика к рублику, любовное выравнивание стопки этих жёлто-коричневых с зеленцой бумажек (один карбованець, адзin рубель, Бир сум, Бiр сом…) забрезжили в ней с той первой попытки претворить в реальную ощутимую прибыль своё умение: выцарапывать рисунок на бараньей кости.)
Что зрело в этой юной голове: врождённый талант дальних предков, финикийских купцов-мореходов? Или сработали более близкие – рукой подать! – гены чайных купцов Хакимовых, первейших богачей в Уфе и Казани?
– Ну, и тут не убавишь, как ни крути, а я и не собираюсь крутить, – всю войну она прошла полевым хирургом, – продолжает бубнить тётка Анжела, прикручивая огонь в конфорке до тишайшего росточка. Никак татарскую бабку в покое не оставит. – Это ж не шутка! До сих пор от спасённых ею бойцов открытки получает…
На этом кухонная речуга тётки Анжелы обычно закруглялась. Главного она, ревнивица, никогда о бабке Эльвире не скажет. И главное не то, что Эльвира Каримовна – видная и незаменимая в Бухаре персона: заведующая отделением акушерства и гинекологии в Центральной городской поликлинике (начальство даже на пенсию её не отпускает!), – а то главное, что для единственной своей внучки она стала преданной и строгой матерью.
2
Не суть важно, кто там и что в родне говорит, кому и как косточки перемывает… Суть в том, что с двух своих неполных месяцев Лидуся растёт без мамы, как любит сказануть отец: «по идиотской причине». Почему, собственно, острый менингит, который в течение суток свёл её болезненную худенькую мать в могилу, отец считает «идиотской причиной», Лида не докапывалась. Но приняла эту формулировку, уже привыкнув, что папа её, Диоген Позидис, выражается сумбурно, порой не к месту высокопарно, порой не к месту приземлённо, но, по сути, очень верно. Когда в семи-восьмилетнем возрасте она пыталась разговорить его на предмет воспоминаний о матери, он уклонялся, переводил разговор на другое или отделывался расплывчатыми словами типа «добрая-милая…». Позже она поняла, в чём там была закавыка, да отец и сам однажды проговорился, будучи в лёгком подпитии.
– Понимаешь, доча, – проговорил, слегка замявшись. – Не буду тебя морочить, ты ведь человек умный. Я с твоей мамочкой не очень-то близко был знаком. Встретились на вечеринке, закрутили шуры-муры… Откровенно скажу, это были не первые мои шуры-муры, я ведь к тому времени уже состоял в официальном разводе, был вольным джентльменом.
– Ты ради мамы бросил жену? Мерзкую злобную стерву?
– Боже упаси, доча. К чему эти наветы! Она была хорошая удобная женщина. Искусствовед, кандидат наук.
– Почему же ты сбежал от удобной женщины, искусствоведа?
– Я не сбегал, – горячо возразил папа. – Ушёл с достоинством, с одним чемоданом и… эм-эм… с должной благодарностью в душе и памяти. Просто моя супруга, она… была несколько взрослее меня. Не намного, на семнадцать лет. Педагогом моим была, в самом широком смысле слова. Сошлись мы тоже случайно, в процессе пересдачи курсовой работы по истории живописи. Так и поженились. Я ведь считал себя джентльменом, ясно?
– Ясно, – согласилась дочь.
В её голове выстраивались ровные шеренги всех этих житейских обстоятельств, встреч, компаний, женитьб и расставаний… Джентльмен – это ясно. Бабка Эльвира каталась на велосипеде Rover, подаренном мулле английским джентльменом. Всё в мире было взаимосвязано, как взаимосвязаны были два любимых головных убора бабки Эльвиры – две чалмы: одна тёмно-голубая, шёлковая, под цвет её глаз, другая – алая, бархатная. Она в них и сама на муллу смахивала. А брови высокие, губы прорисованные, всегда ярко накрашенные… Она и в преклонные годы была чудо как хороша – в белом халате или в крепдешиновом платье с надставными плечами и оборочками по лифу. Пожалуй, права тётка Анжела: бабушка была куда красивей своей дочери.
– Ну, а жить мне было совершенно негде, я и причалил к одной своей… эм-эм… знакомой художнице. На время… А там всегда собирались весёлые компании, самые разные. И однажды возникла юная приезжая… эм-эм… фея. Очень юная, да. С такой, знаешь, прилежной школьной походкой… Я был пленён. А я ведь считал себя джентльменом, ясно? Так что недели через три я повёл её в ЗАГС. Залетела она, похоже, ещё от первой моей улыбки на той вечеринке, и беременность её была моим кошмаром; поверишь, я проклял всё на свете: саму её, Ирочку мою бедную, своё дурацкое благородство, свои будущие пропащие годы… Почти все девять месяцев она пролежала на сохранении, и я эту дорогу от хлопкозавода до роддома, с передачками, на перекладных, запомнил гораздо крепче, чем бледное лицо своей малознакомой супруги в окне. Наконец она родила. Я поплёлся в роддом, как на плаху. Мне казалось – всё, жизнь моя кончена, отныне я между женой и младенцем заперт на огрома-а-а-днейший замок. И вот медсестра вынесла тебя – за три рубля в карман – и сунула мне в руки. Я приоткрыл краешек покрывала, любопытно же, что там за «не мышонка, не лягушку» она так дёшево мне продала после всех моих мучений. И увидел я, слышь, настоящего че-ло-ве-ка!
У тебя было такое хара́ктерное личико: бровки, реснички, ясный такой носик с тонкими ноздрями, круглый подбородок, как райское яблочко, губки такие нарисованные, упрямо сомкнутые. Ни одного лишнего или неверного штриха. Отличная работа! Блин, я пропал! Я наконец влюбился! Схватил в охапку этот шедевр, чтобы не уронить от восторга, повернулся и побежал к такси, а твоя мама, бедная, семенила за мной морочным прицепом. Ну а вскоре, ты же знаешь, пожрал её, несчастную, менингит. Я этот ужас даже вспоминать не могу, прости меня, доча! Оказывается, она прививок в детстве не принимала – по слабости здоровья, из-за аллергии, что ли. Бабушка твоя считала, они повредят ребёнку. Идиотство, конечно. Медик, называется… Вот так и получилось, что я даже лица её, Ирочки нашей бедной, припомнить не могу. Мне и свадебная фотография наша кажется вроде как посторонней. Я на ней сам себе ненастоящим кажусь. Ещё и в костюме, и в галстуке, как дурак. Ни черта не помню, да и откуда? Мы, считай, почти что и не жили. Настоящей оказалась у меня только ты. Иногда думаю: вот судьба, сука жестокая, всех раскидала, да, чтоб, значит, не мешали нам? Чтобы ты в моей жизни единственной сияла, как первая звезда?.. «Вышла на небо ночное звезда светозарная, людям / Близость пришествия рано рождённой зари возвещая1».
Лидусин папа Диоген Аполлонович, Геннадий Павлович в народном обращении, имел слабость к высоким образцам античного эпоса. «Греческая закваска, – бормотал смущённо, если (иногда) чувствовал, что перебрал с героикой. – Софокл-Еврипид, военное детство, от советского информ-бюро…»
Добавим сюда и наследственность: дедушка Паша, Аполлон Николаевич, с ходу, как акын, рифмовал на любую тему, особенно если в центре события помещалась его супруга Мануш Аршаковна – её нос, её нога или прочие части тела. «Мой жена широк, его зад тяжёл. Даже царский трон нам не подошёл…»
Короче, спасибо, папочка Диоген Аполлонович, что хоть меня-то назвали нормальным русским именем.
– Ни хрена, имя греческое, – поправлял отец. – В русский обиход чего только не приплывало. Лидия – значит, жительница Малой Азии, лидийский лад, античный колорит. Ты ж азиатка, Лидусь, верно? Во-о-от. Тебя, между прочим, воспел поэт Гораций…
* * *
На этой самой почве (не имени девочки, а вообще смысла, назначения и температуры слов) у отца с бабушкой Эльвирой существовало взаимное раздражение, постоянные недопонимание и конфликты. Они по-разному называли вещи и с самого начала, с первой встречи, не договорились о терминах. Так бывает даже в научных спорах, пояснял папа, о терминах надо договариваться на берегу философского диспута. Однако «на берегу» – то есть тогда, когда «бедная Ирочка» так ошеломительно быстро, за сутки, ушла, как улетела, от менингита, а бабушка Эльвира в горе и ужасе примчалась на похороны, застав папу Диогена с орущим свёртком на руках, – на том самом «берегу» договариваться о чём-то, тем паче о словах и терминах, было некогда и неуместно. Надо было, давясь слезами горя, выкармливать-выращивать сироту. А когда сердобольные соседки возмущались – и как это, мол, бог допустил такую жестокость судьбы, – Эльвира Каримовна, кандидат медицинских наук, мрачно ответствовала: «Богу до сраки!»
Короче, бабушка Эльвира переехала из Ташкента в Бухару, устроилась на работу в поликлинику и занялась воспитанием внучки, попутно вразумляя и зятя, если ей удавалось вставить хоть слово в его монологи.
Так оно и повелось: всё, что говорил отец, затем переговаривала бабка своим размеренным и чётким, не терпящим возражений голосом заведующей отделением. Но Диоген, человек занятой и обременённый разновекторными интересами, очень ценил бабкино участие в выращивании дочки, её упор на дисциплину, на вот это «никаких переспрашиваний!» и «просто делай, что тебе велят!». Не говоря уж о чистоплотности и порядке в жизни девочки.
Возьмём такую неотменимую задачу, как еженедельная баня. Ну не мог папа в баню дочь сопровождать! Вернее, мог, но не до шайки же. Так что в баню по воскресеньям они шествовали втроём.
То есть не «шествовали», это так, для красного словца, а летели, мчались, выжигали на мотоцикле! Да, у Лиды с папой был мотоцикл с коляской, немолодой, зато армейский – ух, прямо зверь народный! Самый надёжный!
(«Надёжный» – ключевое папино слово. Если он безгранично во что-то или в кого-то верил, то говорил: «самый надёжный на свете!». Это он всегда повторял, когда они проходили мимо одной незаметной будки в Токи Заргарон: «Тут, доча, во время войны сидел и работал мой самый давний, самый надёжный на свете друг. Звали его Ицик, а иногда Цезарь, раз на раз не приходилось». Это Лида понимала: Гена, а иногда Диоген, раз на раз не приходится.)
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе