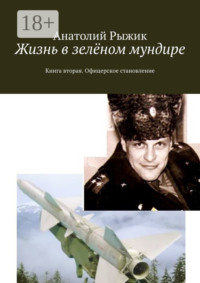Читать книгу: «Жизнь в зелёном мундире. Книга вторая. Офицерское становление», страница 4
Происшествие
В первые месяцы службы я оказался участником крайне неприятных событий. Произошли они во время моего несения службы оперативным дежурным ЗРДН.
Первое моё боевое дежурство прошло без эксцессов. Второй раз я пошел в наряд более уверенным в себе. Так как в месячном графике дежурств я фигурировал пять раз, то быстро набирался опыта. Однако это не помогло мне правильно оценить непредвиденную ситуацию, которая возникла спустя чуть более месяца после первого наряда.
Смена оперативных дежурных производилась утром, совместно с КФС. Я заступил, и день на дежурстве прошел в быстром ритме: как всегда, следовали постоянные команды, сигналы и вводные. К 21.00 они стихли и мне принесли ужин на моё рабочее место.
Дежурная смена находилась в двухминутной готовности к пуску боевых ракет, поэтому покидать ЗРК оперативному дежурному запрещалось.
В районе 22.00 мне доложили с КПП – на территорию прошел командир дивизиона. Вечерний визит начальства может быть только с целью контроля, посему я насторожился и приготовился, ожидая проверку службы дежурной сменой.
Прошло полчаса – тишина. Значит, командир не по нашу душу, а пошел проверять караул. Мне будет поспокойнее заканчивать наряд. Только я так подумал, как в кабину управления влетел начальник первого отделения и сообщил о том, что майор Моисеев построил личный состав дивизиона возле 7-го сооружения, где хранится боекомплект ракет. Ему зачем-то потребовалось личное оружие. Начальник первого отделения передал мне приказ: срочно доставить личное оружие – пистолет (ПМ) командира к седьмому сооружению. Для того чтобы я мог покинуть рабочее место, командир прислал ко мне начальника первого отделения, и тот должен подменить меня на дежурстве.
Сейф с оружием офицерского состава находился на командном пункте ЗРК, в кабине управления, а выдачу оружия по тревоге осуществлял оперативный дежурный ЗРДН. Я поинтересовался у начальника первого отделения: для чего вдруг понадобился командиру пистолет, но тот ответил, что понятия не имеет. Больше я ничего не спросил, так как было передано «доставить оружие срочно» да, и вёл себя сменщик как—то странно, мне даже показалось что испуганно.
Так ничего толком не выяснив и из-за этого находясь в растерянности, я взял журнал выдачи оружия, пистолет командира и отправился к 7-му сооружению…
Череповецкая осень.
Огневая позиция ЗРДН площадью 16 гектар не освещена. На улице темнота неимоверная, натоптанных дорожек не видно, грязь липкая тягучая, сапоги увязают в ней.
Иду по направлению к 7-му сооружению, совершенно ничего не видя, только грязище чавкает под ногами. Наконец-то впереди замерцала слабо освещённая площадка перед 7-м сооружением.
Личный состав дивизиона был построен перед ней побатарейно. Гробовая тишина, никаких команд и разговоров. Явно что-то не так. Перед строем командир дивизиона.
Ничего не понимая я подошёл и доложил майору Моисееву о своём прибытии. Попросил его расписаться в журнале выдачи оружия за пистолет. Он расписался – я выдал ему пистолет.
Вижу: строю стоит весь личный состав ЗРДН, даже снят кухонный наряд. Кроме гнетущей тишины я ничего странного я так и не заметил. Никто не бормочет, не шевелится – даже как-то непривычно.
Нарушил тишину голос Моисеева, который прозвучал угрожающе: – «Повторяю: рядовой Ятнекс выйти из строя! Теперь-то ты выйдешь…»
Моисеев вставил обойму в ПМ.
Ятнекс с лицом бело-бумажного цвета вышел из строя. Мне стало не по себе – глаза Моисеева смотрели в «никуда», а слова он произносил чётко, отрывисто:
– «За невыполнение приказа командира дивизиона и нанесение ему оскорблений, рядовой Ятнекс приговаривается к смертной казни через расстрел!».
Моисеев передёрнул затвор пистолета.
Далее происходящее смешалось в моём восприятии и понимании. Успел поднять руку с пистолетом Моисеев, готовясь к стрельбе или нет – точно не помню.
Откуда-то из темноты на него вывалился и схватил за руку, в которой был зажат ПМ командир стартовой батареи капитан Ортобаев.
Вдвоём они завалились в грязь. Ортобаев был сверху, пистолет был уже у него. Подпрыгнул к валяющимся в грязи и мой комбат – капитан Сергиенко.
– «Лейтенант забери пистолет!» – прокричал мне (через слово вставляя мат) Осман Топтукович Ортобаев, восседая на командире дивизиона.
Вдвоём с Сергиенко они волоком потащили Моисеева в темноту, успев крикнуть строю: «Разойдись!».
Земляки увели и Ятнекса – он был не в себе.
Я попросил офицеров рассказать, что произошло. Мне сообщили, что командир дивизиона поймал Ятнекса в самовольной отлучке. Когда тот появился, Моисеев построил дивизион и начал его ругать. Ятнекс не молчал – огрызался.
Перебранка привела к тому, что Моисеев назвал Ятнекса прибалтийской свиньёй, а тот ответил, что это лучше, чем быть русской, пьяной свиньей.
После этих слов командир дивизиона неожиданно замолчал, а затем послал начальника первого отделения за оружием. Когда тот убежал, Моисеев приказал Ятнексу выйти из строя. На этот приказ Ятнекс ответил, что он всякое гавно слушать не будет, и послал Моисеева «куда подальше».
Тот на это хамство ничем не ответил…
После этой перепалки минут десять дивизион стоял в оцепенении ожидая чем это закончится. Стоял до того момента пока с оружием не появился я.
Конечно, об этом случае кто—то доложил командованию. Несомненно, дошло и до командира корпуса потому, что князю Жаровскому наступил конец. Он стал другим «князем», так как был отправлен в другой корпус, получив при этом звание «подполковник». Очевидно, очень сильный покровитель был у Моисеева, иначе не объяснить, почему так долго с ним не мог ничего сделать такой заслуженный человек как комкор Герой Советского Союза генерал-майор Кабишев.
Но хоть таким образом лёд тронулся с места.
Не сошло это просто так с рук и прибалтийским «дедам». Озолинша, Ятнекса и Булайтеса разослали по разным дивизионам.
Решили усилить и офицерский состав – взамен «двухгодичников» в дивизион начали приходить кадровые офицеры.
Стал доукомплектовываться штат. В дивизионе появился заместитель командира по политчасти.
Обстановка оздоровлялась и позволяла мне больше времени посвящать учёбе. Продолжая «жить службой и на службе», я занимался и тренировался на материальной части с утра и за полночь. Перешёл к изучению настройки техники, порядка и подготовке её к боевой работе. Это стало первостепенной задачей – приближались полугодовые регламентные работы. На десять суток ЗРК снимался с боевого дежурства. За этот период он подвергался серьезной профилактике: его разбирали, чистили, собирали и настраивали.
Офицеры для этих работ составляли планы, готовили технологические карты, получали на складах бригады расходные материалы и ЗИП.
А вот спирт получал на складе лично капитан Сергиенко. Запчасти и расходные материалы он выгрузил в части, а двадцати литровую канистру сразу занес к себе домой. Моим расчётам для регламентных работ требовалось 16 литров, я его был обязан выдать.
Поэтому я спросил комбата:
– «Будет ли выдан спирт на регламентные работы?» – он ответил утвердительно, сказав, чтобы за ним я зашел к нему вечером, он мне отдаст положенное. В назначенное время я прибыл к Сергиенко домой. Он встретил меня на кухне сидя за столом с начальником штаба майором Агеенковым. На столе стояла трехлитровая банка прозрачной жидкости, а по запаху, который царил на кухне, я понял, что в ней спирт.
– «Товарищ капитан! Прибыл за спиртом для регламентных работ» официально доложил я. Сергиенко предложил мне сесть, но я отказался. Тогда, он достал стоявшую под столом канистру и отдал её мне. Почувствовав её лёгкость, я сказал, что спирта в ней мало, что мы не сможем выполнить регламентные работы в полном объёме и в соответствии с технологическими картами. Техника будет плохо обслужена.
– «Рыжик, Вы пьёте спирт?» спросил Сергиенко. Получив от меня отрицательный ответ, он с сожалением произнёс:
– «А вот мы с начальником штаба пьём…. Иди, работай и не задавай мне глупых вопросов!»
Когда я раздавал офицерам спирт для регламентных работ, то боялся услышать вопрос, почему так мало. Вопрос я услышал, но другой:
– «Как Вам удалось получить спирт? Мы впервые будем делать с ним регламентные работы»
Но опять хорошее резко породило плохое. Основная часть спирта шла на работы, проводимые в кабине «П». Очень много расходовалось на мытьё волноводов. Ими опутана вся кабина, а представляют они собой металлический чулок квадратного сечения 2,5см. на 4,2см. Длинна каждого до полутора метров, и они стыкуются между собой. Для хорошего распространения электромагнитных волн волноводы внутри покрыты медным сплавом.
Технология мытья проста. После разборки приёмопередающей системы волноводы расстыковываются.
В каждый из них наливается спирт, хорошенько взбалтывается, затем выливается.
Спирт пили не только комбат и начальник штаба, но и другие. Поэтому каждый себе «отщипывал» от полученного. Старший лейтенант Гусев не был исключением. Моя волноводы он переливал спирт из одного в другой, а не заливал новую порцию.
Когда я зашёл в кабину «П» проконтролировать его работу, он показал мне отработанный спирт. Эту тягучую, зелёно-черную смазку, никак нельзя было называть спиртом.
Было понятно – волноводы не чистили с момента выпуска ЗРК с завода-изготовителя, а Гусев при работах спирт явно экономил.
Наступило время обеда, я подал команду подчинённым и проследовал в столовую. Обедал я в отдельном закутке солдатской столовой, вместе с офицерами-холостяками. Обедали, не торопясь – дивизион на регламентных работах имел срок готовности к боевой работе 24 часа. В обыденной жизни при дежурстве редко выпадает на обед больше пятнадцати минут, поэтому в этот раз мы засиделись за разговорами. Пошутили про спирт, мол, неплохо бы было поделиться Гусеву с товарищами, имея его самое большое количество. Тот ответил, что может подарить отработанный спирт, оставшийся после промывки волноводов. Кто-то сказал, что его уже наверняка выпили солдаты. Все засмеялись. Вдруг, разом насторожились – а если на самом деле?
Гусев сказал, что неиспользованный спирт он убрал, а эту жижу выпить может только идиот.
Офицеры продолжали подтрунивать, но Гусев возражал: у него в расчёте очень порядочный солдат. Тем не менее, в его голосе уверенности уже не было. Офицеры напомнили пословицу: «куда солдата не поцелуй…».
Это было последней настораживающей каплей, поэтому на всякий случай мы с Гусевым завершили обед и пошли на технику.
В кабине «П» на полу лежал рядовой Калинович – отличник боевой подготовки. Лицо у него было зеленовато-серого цвета, рот открыт.
Я и Гусев вытащили его на улицу, по громкой связи вызвали фельдшера и дали команду принести ведро воды.
– «Пей Калинович, пей!».
Гусев сунул тряпку с нашатырём ему под нос:
– «Пей сволочь, кому говорят!»
Мычание и попытка пить. Здоровяк Гусев как пушинку поднял его за плечи:
– «Заливайте в него воду!». Немного смогли влить. Перевернули лицом к земле, в рот воткнули пальцы. Пошло…
Рядовой Калинович зашевелился, ожил.
Фельдшер сделал укол и начал суетится возле него.
Подошли начальник штаба и комбат и сказали мне не зло, с сожалением:
– «Нашёл на свою жопу приключение товарищ лейтенант?
Тебя предупреждали, что спирт пить надо, а не волноводы им мыть! Надо слушать старших»
Часть 3
Я снизил бытиё своё до службы
В работе весь, в земной моей судьбе,
Но прошлое несильно мной забыто,
А мысли постоянно о тебе.
Прилёт Анны
Жизнь шла как один бешенный, затянувшийся сон. Служба, учёба, наряды, политзанятия, учёба солдат, тревоги, комиссии.
Замполит, пришедший в дивизион – начал проверять, как мы конспектируем первоисточники. Пришлось по ночам переписывать газеты с материалами съездов КПСС и великие творения Брежнева – «Малая земля» и «Целина». Мне ещё повезло – я привёз из училища семь больших тетрадей с конспектами работ Ленина, а другие конспектировали и их. Невыполнение задач по конспектированию рассматривалось парткомиссией части как подрыв боевой готовности.
В таких условиях я забыл обо всём остальном.
Как голос из другой жизни прозвучало пожелание Анны, прилететь ко мне на пару суток. Переписка у нас шла стабильная – два письма в неделю. Я ей вкратце описывал условия, в которых находился, но только очень мягко – чего пугать заранее?
Конечно, можно ухватиться за её идею прилететь ко мне, но возникает уйма проблем и неудобств.
У меня ещё нет комнаты и ей негде остановиться.
Не приготовить поесть, не помыться.
А как добираться!? Самолетом с пересадкой в Питере, да еще кажется с переездом между аэропортами! Приехать просто невозможно – зачем её мучить. Как освободят мне квартиру, тогда – пожалуйста.
На таком решении мы с ней и остановились.
В один из ноябрьских дней срочно вызывает меня
начальник штаба дивизиона и сообщает:
– «К тебе прилетела жена, находится в штабе в Питино. Через пару часов наш грузовик загрузится продуктами и будет возвращаться. Я дал команду – её заберут, привезут сюда, готовься»
Я оторопел, но обрадовался. Бросился переселять всех из своей комнаты куда-нибудь и к кому-нибудь.
За три часа все было готово. Была комната, в угол которой был свален скарб (и накрыт простынями) проживающих лёйтенантов. Были сделаны запасы продовольствия (принес с продовольственного склада каких-то консервов и круп, из столового пару кастрюль, стаканов и чайник).
Поздним вечером я встретил на КПП ЗИЛ-157, в кузове которого Анна успешно преодолела дорогу в 29 километров, с характеристикой в 79 жопоудар/сек!
В белых сапогах-чулках и макинтоше голубого цвета красивая студентка Минского Театрального института смотрелась великолепно. Однако она выглядела диссонансом со всей окружающей обстановкой: полумраком, грязью по щиколотку, перекошенными домами офицерского состава и туалетами, дверьми, которых играл ветер.
Стоявшая на дороге мать жены майора Агеенкова замерла, увидев Анну. Пожалуй, инопланетяне произвели бы на неё меньшее впечатление.
Очевидно, пожилая женщина отвыкла от цивилизации. Сама она была в солдатских сапогах с обрезанными голенищами, из которых торчали тонкие ноги в голубых байковых кальсонах старшего офицерского состава.
В руках её было полное мусорное ведро. Так она и простояла в слабом свете единственного прожектора освещающего жилую территорию, не шевелясь, провожая нас взглядом до тех пор, пока я не завёл Анну в дом.
Конечно, тот вечер памятен: при свечах, на столе армейская тушёнка, принесённая мною со склада и дагестанский коньяк, привезённый Анной. Жена рассказала, как добиралась: дорога по времени имела три основные составные части.
Минск – Ленинград: время полёта один час пять минут. Ленинград – Череповец: время полёта один час пятнадцать минут.
Питино – дивизион: время «полёта» три часа двадцать минут (почти в два с половиной раза дольше, чем лететь из Минска в Череповец)!
Вылетев первым утренним рейсом из Минска, Анна прилетела в Питер в девять утра. В аэропорте Череповца она приземлилась около часа дня. С этого момента начались сложности.
Не зная, что аэропорт расположен в восемнадцати километрах от дивизиона на «нашем» берегу реки Шексна, Анна поехала в противоположную сторону от места моего местопребывания – в штаб Питино.
На пароме переправилась через Шексну, в город и добралась до части, расположенной в пригороде. Нашла дежурного и поинтересовалась, как найти меня, сказав, что я нахожусь не в Питино, а где-то в лесу. Тот понял, что я служу в дивизионе С-75, и спросил на каком из двух дивизионов, назвав их по позывным.
Поэтому вопрос его прозвучал так:
– «Он у Вас «Мастак» или «Краситель»?
Мастак есть такое белорусское слово. В переводе на русский язык – художник.
Анна училась в Белорусском Государственном Театрально – художественном институте, на белорусском языке наименование звучит так: Беларускi Дзяржауны Тэатральна – Мастацкi iнстытут. В институте были факультеты: театральный и художественный.
Резкий перелёт из Минска в Череповец сказался на языковом барьере – Анна подумала, что её дежурный спрашивает о том, кем я работаю: художником или маляром.
С гордостью она ответила, что её муж не «Мастак» и тем более не «Краситель», а ракетчик!
Дежурный сказал ей, что здесь все ракетчики и опять повторил вопрос:
– «Он у Вас «Мастак» или «Краситель»?
Анна, недоумевая, почему дежурный плохо соображает, разъяснила:
– «Мой муж Рыжик Анатолий – инженер-лейтенант, ракетчик. А закончил он не Беларускi Дзяржауны Тэатральна – Мастацкi iнстытут чтобы работать художником, а Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище войск ПВО страны!»
Вот теперь (после этой фразы) дежурный понял, что спрашивал Анну не по-русски.
Вскоре они разобрались…
Мы не могли нарадоваться встрече, поэтому в основном находились в доме, рассказывая то, о чём в письмах не отобразишь. Погулять выходили только вечером, вдоль дороги. Гуляя, зашли в магазин военторга (он располагался на КПП дивизиона) с целью купить кастрюлю.
Продавщицей работала жена командира дивизиона. Она объяснила нам, что молодым семьям кастрюли не продают. И это касается не только кастрюль. На все товары существует очередь, надо записаться и ждать. С таким мы столкнулись впервые, и нас это удивило.
После посещения магазина Анна пообещала привезти кастрюлю из Белоруссии, а я решил «одолжить» её на службе.
Анна пробыла у меня двое суток и улетела, вернув меня в обыденность «лесного бытия». Её приезд дал многое: мы увиделись, Анна изучила дорогу, меня не пугало незнание Анной обстановки, в которой ей предстояло жить.
После первого прилета последовали следующие, с интервалом один месяц, изредка два. Каждый визит Анна привозила с собой из Минска деликатесы и дагестанский коньяк.
Мы могли позволить себе эти встречи – денег нам хватало. Это был период жизни, когда не особо задумываешься о будущем – ты просто в нем уверен.
Считали ли мы деньги? Всегда!
Определяли ли тогда они нашу жизнь? Конечно нет!
Быт
Ту огромную роль, которую играла дорога в нашей Жаровской жизни даже тяжело передать. Такой её значимости больше нигде и никогда я не встречал. Её вполне можно было назвать дорогой жизни. Рабочий день всей округи начинался и заканчивался ею.
Возникшие у людей болезни или полученные раны средней тяжести дорога могла превратить в финал жизни. Аппендицит в деревнях был смертелен, да и всё остальное, что требовало срочной помощи, было фактически обречено.
Дома сгорали, травмированные умирали, машины застревали на дороге и торчали в грязи наполовину утопленными сутками.
Очень короткий срок – летний, дорога к нам относилась милостиво. В весенний и осенний периоды совершенно не щадила, представляя собой месиво, сквозь которое просматривались колеи глубиной до метра!
Огромные трактора «Кировец К-160» и те торчали в ней как одинокие зубы во рту древней старухи.
В эти периоды дивизион отдыхал от внезапных проверок и всякого рода комиссий, а продукты личному составу (в том числе и семьям офицерского состава) возили на тягачах АТС (артиллерийский тягач средний) раз в неделю.
Дорога делала и подарки: первые годы пребывания в Жарах мы с Анной ходили вдоль неё заготавливали свёклу, капусту, морковь – всё то, что высыпалось с совхозных машин.
Собирали многие и офицеры, и деревенские жители – каждый на своём куске дороги. В это тяжело поверить, но просыпанного урожая хватало на всех.

Однажды я и Анна не ехали, а плыли с почты на ТЗМ (транспортно-заряжающая машина, без кузова). Сбоку дороги увидели сто литровую (вроде – бы дубовую) бочку. Удивились: из неё торчали куски пергамента, а вокруг было рассыпано что-то белое. Анна высказала предположение, что это известь или мел. Нам бы он в хозяйстве пригодился, но во множественном числе суетящиеся и что-то клюющие вороны вокруг лопнувшей бочки, вызывали сомнение в правильности её версии.
Я дал команду водителю пробиваться к вороньему пиршеству. Даже одну метровую колею было непросто пересечь, а тут их чередой пересечена вся дорога.
Небыстро и с огромными пробуксовками мы всё же добрались до бочки и…
Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили в бочке творог!
Долго мы ели «дары дороги», разделив их между семьями. Хватило и солдатам – женщины делали для них сырники и вареники.
Самый диковинный дар дорога преподнесла осенью, когда мы ехали из штаба бригады с командиром дивизиона.
Подарком был живой поросёнок! Он упал в колею из перевозившей его машины, да так глубоко, что мы увидели его только тогда, когда подъехали вплотную. Он был перемазан грязью как свинья!
Жаль, что командир не поступил так же благородно как мы с Анной.
Поросёнка он сожрал ни с кем не поделившись….
В колею попадали и большие, пьяные «свиньи».
Как-то осенью, вечером, возвращаясь с учений колонна техники в сцепке с КРАЗами, шла через деревню Починки, что в трёх километрах от нашей огневой позиции.
Старшим машины идущей передо мной был капитан Гончаров. Я еду спокойно – колея как в песне Высоцкого:
– А вот теперь из колеи
Не выбраться.
Крутые скользкие края
Имеет эта колея….
Так держать!
Колесо в колесе!
И доеду туда, куда все.
Вечер, после учений, едем домой, расслабуха…
Колея ведёт машину – можно бросить руль – выведет. Вдруг водитель встрепенулся и резко нажал на тормоза – машина, продолжая движение, поплыла по инерции (на фаркопе 20 тонная кабина управления ЗРК!).
Скольжение было длительным, а когда машина остановилась, то в свете фар я увидел, что между двумя колеями что-то шевелится, небольших размеров, вроде кошки. Водитель вышел из кабины, взялся за это «что-то» и начал тащить. У меня всё похолодело: он вытащил – мужика!
– «Впереди идущий раздавил» – подумал я.
Колонна встала, начали подбегать старшие машин. Белее, белого подошел капитан Гончаров, с ужасом осознавая, что его машина раздавила человека.
Вдруг мужик пошевелился, открыл глаза. Солдаты затащили его в ближайший дом, и мы его осмотрели.
Ни царапины, ни синяка, но он совершенно пьян, до беспамятства. По требованию хозяев дома, не пожелавших оставить у себя такого гостя, мы отнесли его обратно к дороге, и колонна продолжила свой путь.
***
Где-то в ноябре моя штатно-должностная двухкомнатная квартира была освобождена. Ко мне пошли «ходоки» – семейные офицеры, у которых были дети, с просьбой отдать эту квартиру им.
Мотивация у всех одинаковая: я один буду жить в двухкомнатной (до выпуска Анны из института более полгода), а они втроём мучаются в однокомнатной.
Говорили, мол, получается не по-совести, и просили меня уступить им полагающуюся мне квартиру в обмен на их жильё. Говорили, что мне всё равно потом дадут двухкомнатную – ведь положено по штату. В конце концов, я не выдержал натиска и, получив от Анны письмо с согласием, уступил нашу квартиру. Отдал её семье старшего лейтенанта Саяпина.
Сразу скажу о том, что мы долго жалели о своём хорошем поступке – почти три года. Причина сожалений в том, что свободных квартир долго не было, а комната, которую я получил взамен «штатной» была очень холодной.
Печное отопление в виде части поверхности печи, проходило через коридор и две квартиры: двухкомнатную и нашу, однокомнатную.
Кусок поверхности коллективной печи, который проходил именно в нашей комнате был шириной 40 сантиметров, в то время как в других до метра.
Зимой, когда на улице было за – 40°, в нашей комнате выше +9° температура никогда не поднималась.
Это при всех моих усилиях утеплить её.
Только тогда я осознал, что наделал.
В ноябре я этого не мог предвидеть, да и ничего не смог бы сделать с комнатой: кроме малого куска печи, стекловата, которая была наполнителем плит дома, осыпалась. Комната продувалась, как будто была из картона. В части был установлен странный порядок – ремонт делает въезжающий, поэтому, получив и обменяв жильё, я сразу приступил к его ремонту.
В комнате было одно окно, но в ужасном состоянии: щели по периметру, а стекла составные из кусков. Дуло так, что байковое одеяло, которое я повесил вместо штор, шевелилось и складывалось впечатление, что за ним кто-то стоит.
Щели я законопатил, а вот стекло нигде не мог «достать». Узнав о моих поисках, старший офицер стартовой батареи – старший лейтенант Костенко сказал, что у него тоже такая проблема и предложил объединить усилия.
– «Выход есть – сообщил он – когда я проезжал деревню под названием Починки (около трёх километров от дивизиона) то возле свинарника видел ящик со стеклом»
Костенко считал, что нам оно необходимее, чем колхозу и мы не хуже свиней. Я был с ним солидарен.
Разработанный нами план был очень прост: темнеет рано, вот мы около часа ночи пойдём и заберём из деревни этот ящик.
Решили и пошли.
Череповецкая ночь – это абсолютная чернота, мне кажется, что даже на Украине светлее. Очевидно, «качественно» закопчённое череповецким металлургическим заводом небо, не позволяло хоть какому-нибудь небесному свету добраться до поверхности земли.
Андрей Костенко жил в дивизионе уже три года и умел ходить в темноте не падая, на ощупь. Я тоже приобрёл такие навыки через год, а пока шел, путаясь в колеях, периодически припадая к земле, а то и вовсе падая в грязь ломая её покрытие из ледяной корки.
Двигались в таких условиях около часа. У свинарника, изредка подсвечивая фонариком, Андрей нашёл стекло. Мы ухватились за ящик и оторопели под его тяжестью. Было ясно – от такой ноши может вывалиться грыжа.
Ящик без шума не вскрыть, да и не чем. Мы к этому не подготовились – не взяли с собой необходимого инструмента. Решили: потащим весь ящик, не вскрывая. Три километра за ним шли, не с пустыми же руками возвращаться.
Понесли, пытаясь хоть изредка тащить по скользкой ледяной корке, покрывающей грязь дороги, но ящик ломая слабый лёд мгновенно утопал в жиже. Через триста метров мы уже были в таком состоянии, что нас самих надо было тащить. Деревня закончилась и мы, недолго думая, решили вскрыть упаковку. Эта задача оказалась крайне трудной, так как ящик был сколочен на совесть, а без инструментов и в полной темноте она ещё усложнялась.
Разодрав себе руки, мы всё же вскрыли упаковку. Каждый взял себе по три стекла размером 1,5метра на 1метр, и мы продолжили движение.
Привалы делали очень часто, но, когда идёшь в раскоряку в темноте, по грязи – силы улетучиваются мгновенно. Я, боясь упасть «мордой» в стекло, шел медленно и осторожно
Вскоре мы поняли, что не рассчитали силы и аккуратно у обочины оставили по одному стеклу.
Около пяти утра мы пришли в городок. Костенко донёс только одно стекло, а я полтора.
И всё же ходили не зря – добычи мне хватило для застекления окна. После чего можно было приступать к дальнейшему ремонту.
Поклеил обои, потолок (он был клееный бумагой), покрасил пол.
Поставил две армейские кровати и две солдатские тумбочки. Вместо шкафа в угол комнаты водрузил два чемодана с барахлом. Получилось пусто и неуютно. Мебели никакой и взять негде. Дефицит был во всём. Магазин военторга работал, но он всегда был пуст. Можно было купить только мыло, нитки, спички, соль, пуговицы и погоны.
Привозя товар, продавщица (почти всегда ею была жена командира дивизиона – женщинам работать было негде) показывала «лавочной комиссии» (была такая) накладные и весь товар сразу же делился.
Колбаса, сыр, масло (изредка и другие продукты) по количеству едоков в семье, а промтовары продавались по заранее составленным спискам. Списки были на всё, что только существует: холодильники, телевизоры, ковры, часы, посуду, кастрюли, бельё, одежду. Если подходила очередь, то люди покупали товар, даже в том случае если надобность в нём отпала.
Я записался во все перечни очереди последним.
Что я мог поставить в комнату кроме армейских кроватей и тумбочек?
Только повесить списки из магазина…
И всё же я придумал, как улучшить бытиё. Нашел в лесу три стройных берёзки, вырубил и поставил в угол комнаты. Сделал между ними стеклянную полку, разместил на ней бокалы – получился бар. Повесил в этом же углу меж берёзок нарисованный мною портрет Есенина. В деревенском сельмаге купил (за взятку) журнальный столик и материал на шторы – стало уютнее.

Наша первая комната
Дома офицерского состава были разделены пополам. Вход в дом был с двух сторон и в каждой половине дома одна двухкомнатная и одна однокомнатная квартиры. Даже не квартиры, а комнаты, так как прихожая у нас была общая, около пятит квадратных метров. На входе в дом небольшая холодная кладовка тоже на две семьи.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе