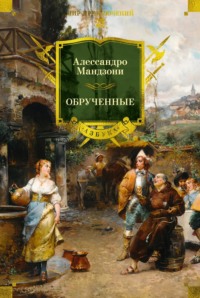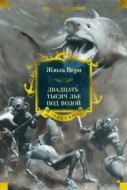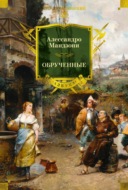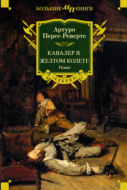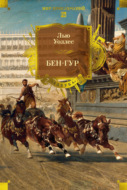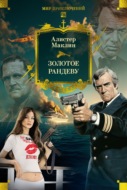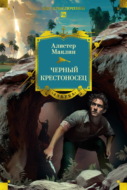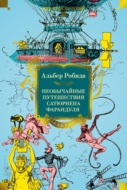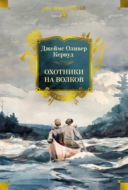Читать книгу: «Обрученные», страница 10

Прощайте, горы, встающие из вод и подъятые к небесам; изрезанные вершины, знакомые тому, кто вырос среди вас, и запечатленные в его памяти не меньше, чем облик самых близких людей; ручьи, чье журчание ты различаешь как звук привычных родных голосов; деревни, разбросанные и белеющие по склонам, словно стада пасущихся овец, – прощайте! Как скорбен путь того, кто, выросши среди вас, покидает вас! Даже в воображении того, кто расстается с вами добровольно, влекомый жаждой разбогатеть на стороне, в минуту расставания самые мечты о богатстве теряют свою привлекательность, путник дивится своей решимости и готов повернуть назад, не будь у него надежды когда-нибудь вернуться богачом. Чем дальше продвигается он по равнине, тем чаще взор его, разочарованный и утомленный, отворачивается от этого однообразного простора, воздух кажется ему тяжелым и мертвым; грустный и рассеянный, вступает он в шумные города, где дома тянутся непрерывной цепью, улицы, вливающиеся одна в другую, словно затрудняют ему дыхание, и перед зданиями, которыми восхищается чужеземец, он с беспокойной тоской вспоминает о небольшом поле в родной деревушке, о скромном домике, который он давно уже заприметил и собирается купить, когда вернется, разбогатев, обратно в горы.
Так каково же той, что никогда не устремлялась за пределы родных гор ни одним, хотя бы мимолетным, желанием, которая связала с ними все надежды на будущее и которую враждебная сила внезапно отбросила далеко от родимых мест! Той, которую разом оторвали от самых дорогих ей привычек, чьи надежды разбили. Покидая родные горы, ей приходится уходить к чужим людям, которых она знать не знает и от которых вернется неизвестно когда! Прощай, родной дом, где, бывало, сидя в одиноком раздумье, она с тайным трепетом училась в шуме людских шагов различать звук шагов желанных. Прощай, дом, пока еще чужой, на который так часто мимоходом поглядывала она украдкой, слегка краснея, дом, в котором рисовалась ей спокойная, мирная жизнь жены и хозяйки. Прощай, церковь, куда столько раз приходила она с ясной душой, вознося хвалу Творцу, где готовилось свершение священного обряда, где затаенный сердечный вздох должен был получить торжественное благословение, а узаконенная любовь – свое освящение. Прощай! Тот, кто дал вам столько радости, вездесущ, и если Он нарушает счастье детей своих, то лишь для того, чтобы дать им счастье еще более надежное и великое.
Такие или почти такие мысли теснились в голове Лючии, и мало чем разнились от них мысли двух других путников, в то время как лодка подвозила их к правому берегу Адды.

Глава девятая


Толчок лодки о берег встряхнул Лючию, которая, утерев украдкой слезы, подняла голову, делая вид, что проснулась. Ренцо высадился первым и подал руку Аньезе; та, выйдя, в свою очередь протянула руку дочери, и все трое с грустью поблагодарили перевозчика. «За что? – ответил он. – Мы для того и существуем на этом свете, чтобы помогать друг другу», и, содрогнувшись, словно ему предложили совершить кражу, отдернул руку, когда Ренцо попытался сунуть ему часть мелких денег, из тех, что он захватил в этот вечер с собой, намереваясь щедро вознаградить дона Абондио, если тот, хотя и против своей воли, сослужит ему службу. Повозка стояла тут же наготове, возница приветствовал тех, кого он поджидал, усадил их, прикрикнул на лошадь, ударил кнутом – и повозка тронулась.
Наш автор не описывает этого ночного путешествия, не упоминает он и названия того места, куда фра Кристофоро направил двух женщин; более того, он даже заявляет, что не желает говорить об этом. Из дальнейшего повествования выяснится причина этого умолчания. Судьба Лючии окажется вплетенной в темную интригу, затеянную одним лицом, принадлежавшим, по-видимому, к семье чрезвычайно могущественной в ту пору, когда писал автор. Чтобы объяснить странное поведение этого лица в нашем случае, автор должен будет даже вкратце рассказать его прошлую жизнь; и семья эта выступит в таких красках, которые разглядит всякий, кто прочтет дальнейшее. Но то, что бедняга из осторожности хотел утаить, нам удалось найти в другом месте. Один миланский историк9, которому пришлось упомянуть о том же самом лице, правда, не называет ни его, ни места действия, но о последнем говорит, что это было старинное и славное местечко, которому не хватало лишь названия города; в другом месте он говорит, что там протекает Ламбро, наконец, что там есть архипастырь. Из сопоставления этих данных мы заключаем, что это не что иное, как Монца. В обширной сокровищнице ученых индукций найдутся, может быть, более тонкие, но вряд ли более достоверные. Мы могли бы также, опираясь на весьма обоснованные догадки, назвать и самую семью, но, хотя она окончательно вымерла, все же лучше оставить это имя ненаписанным, дабы не рисковать задеть даже мертвых и оставить ученым хоть какой-нибудь повод для изысканий.
Итак, наши странники прибыли в Монцу вскоре после восхода солнца. Возница вошел в остерию и, как знакомый с хозяином, распорядился отвести им комнату, куда и проводил их. Среди излияний благодарности Ренцо хотел было заставить и его принять какое-нибудь вознаграждение, но возница, как и лодочник, имея в виду иную награду, более отдаленную, но и более щедрую, тоже отдернул руку и, словно спасаясь бегством, поспешил к своей упряжке.
После вечера, который мы описали, и ночи, которую каждый может себе легко вообразить, проведенной в невеселых размышлениях, в непрестанном ожидании какого-нибудь неприятного происшествия, при дуновении осеннего холодного ветра и непрерывных толчках неудобной повозки, от которых просыпался каждый, кто чуть-чуть начинал смыкать глаза, – после всего этого им просто не верилось, что они сидят на устойчивой скамье, в какой ни на есть комнате. Путники позавтракали, как то позволяли тяжелые времена и скудные средства, которые необходимо было экономить ввиду неизвестного будущего, – да и есть-то никому не хотелось. Все трое невольно вспомнили про пир, который они собирались задать два дня назад, – и каждый тяжело вздохнул. Ренцо хотел было остаться с женщинами по крайней мере до конца дня: посмотреть, как они устроятся, оказать им необходимые услуги. Но падре посоветовал немедленно отправить юношу своей дорогой; поэтому женщины стали ссылаться на этот совет и высказывать при этом всякие другие соображения: что народ, мол, начинает болтать, что отсрочка сделает разлуку еще горестнее и что он ведь вскоре сможет вернуться и обменяться с ними новостями, так что в конце концов Ренцо решился удалиться. Они сговорились постараться увидеться как можно скорее. Лючия не скрывала слез; Ренцо сдерживался с трудом; крепко-крепко пожимая руку Аньезе, он сказал сдавленным голосом: «До свидания» – и ушел.
Женщины оказались бы в большом затруднении, если бы не добрый возница, которому дано было распоряжение проводить их в монастырь капуцинов и оказывать им всяческую помощь. Итак, наши путники отправились в монастырь, который, как всем известно, находится в нескольких шагах от Монцы. Когда они подошли к воротам, возница дернул колокольчик и велел позвать отца настоятеля. Тот явился немедленно и с порога принял письмо.
– А, фра Кристофоро! – сказал он, узнав почерк. Голос и выражение его лица говорили о том, что он произнес имя своего большого друга.
Следует сказать, что наш добрый падре Кристофоро в своем письме весьма горячо отзывался о женщинах и прочувствованно сообщал их историю, ибо настоятель, читая письмо, временами выражал изумление и негодование и, оторвавшись от бумаги, смотрел на женщин с состраданием и участием. Окончив чтение, он призадумался, а потом сказал: «Тут не обойтись без синьоры: если синьора возьмется за это дело…»
Затем, отозвав Аньезе в сторону, на площадку перед монастырем, он задал ей несколько вопросов, на которые та ответила утвердительно. Вернувшись к Лючии, он сказал им обеим:
– Я попытаюсь, милые сестры, найти вам убежище не только надежное, но и почетное, пока Бог не позаботится о вас наилучшим способом. Угодно вам идти со мной?
Женщины почтительно изъявили свое согласие. Монах продолжал:
– Хорошо, я немедленно отведу вас в монастырь к синьоре. Однако вы следуйте за мной на некотором расстоянии – ведь народ любит позлословить, и бог знает какие поднимутся сплетни, если отца настоятеля увидят на улице с молодой красавицей… Я хочу сказать – вообще с женщинами.
С этими словами он пошел вперед. Лючия вспыхнула; возница улыбнулся, взглянув на Аньезе, которая не могла удержаться и тоже улыбнулась. Когда монах успел уйти немного вперед, все трое двинулись вслед за ним, держась на расстоянии десяти шагов. Тогда женщины спросили у возницы (расспрашивать отца настоятеля они не решились), кто такая эта синьора.
– Синьора, – отвечал он, – монахиня, но не такая, как все. Не то чтобы она была аббатисой или настоятельницей, наоборот, судя по тому, что говорят, она одна из самых молодых монахинь, но она – от Адамова ребра, и предки ее были люди большие, прибывшие из Испании, откуда родом все власти, – потому-то ее и зовут «синьорой». Этим хотят показать, что она – большая госпожа, и вся округа называет ее так, потому что, говорят, в этом монастыре никогда не видывали подобной особы; да и вся ее теперешняя родня там, в Милане, много значит – это люди, которые всегда во всем правы, а в Монцо и подавно: ее отец, хоть и не живет здесь, считается первым в округе, поэтому и она может делать в монастыре все, что ей угодно, да и за монастырскими стенами народ ее очень уважает, и уж если она за что берется, то добьется своего, а потому, если этому доброму монаху удастся препоручить вас ей и она вас примет, то, уж прямо могу вам сказать, вы будете как у Христа за пазухой.

Поравнявшись с воротами местечка, в те времена защищенными сбоку старинной башней, наполовину обвалившейся, и остатками какой-то крепостцы, тоже обрушившейся (может быть, некоторые из моих читателей припомнят, что видели все это еще в целости), настоятель остановился и обернулся, чтобы посмотреть, идут ли за ним остальные, затем он вошел в ворота и направился к монастырю, где снова остановился на пороге, поджидая небольшую компанию. Он попросил возницу часа через два-три вернуться за ответом; возница обещал и распростился с женщинами, которые засыпали его словами благодарности и поручениями к падре Кристофоро.
Настоятель пригласил мать с дочерью войти в первый дворик монастыря, ввел их в келью привратницы, а сам отправился хлопотать по делу. Спустя некоторое время он вернулся радостный и велел им следовать за собой. Появился он весьма кстати, ибо дочь и мать уж и не знали, как отделаться от назойливых расспросов привратницы. Пока они проходили вторым двориком, монах напутствовал женщин, давая им указания, как надо вести себя с синьорой.
– Она весьма расположена к вам, – сказал он, – и, если захочет, может сделать вам много добра. Будьте смиренны и почтительны, отвечайте откровенно на все вопросы, какие ей будет угодно задать вам. Ну а если вас спрашивать не будут, положитесь во всем на меня.
Они очутились в комнате нижнего этажа, откуда был вход в приемную. Прежде чем войти туда, настоятель, указав на дверь, сказал вполголоса женщинам: «Она здесь», как бы еще раз напоминая о своих наставлениях.
Лючия, никогда не бывавшая в монастыре, попав в приемную, стала оглядываться, ища глазами синьору, чтобы поклониться ей, и, не найдя никого, стояла как завороженная. Но, заметив, что монах и Аньезе направились в угол, она посмотрела туда же и увидела необычной формы окно с двумя толстыми и частыми железными решетками на расстоянии пяди друг от друга, а за решетками – монахиню.

По лицу ей можно было дать лет двадцать пять, и на первый взгляд оно казалось красивым, однако это была поблекшая, отцветшая красота, и, я бы сказал, носившая следы разрушения. Из-под черного покрывала, наброшенного на голову и ниспадавшего по обе стороны лица, виднелась белоснежная полотняная повязка, до половины прикрывавшая лоб такой же белизны; другая повязка, падавшая складками, обрамляя лицо, переходила под подбородком в белый плат, спускавшийся на грудь и прикрывавший весь ворот черного монашеского одеяния. На чело монахини часто набегали морщины, как бы от мучительной боли, и тогда черные брови сурово сдвигались. Глаза, тоже черные, то впивались в лицо людей с какой-то высокомерной пытливостью, то поспешно вперялись в землю, словно желая укрыться. В иные минуты внимательный наблюдатель нашел бы, что глаза эти искали любви, сочувствия, сострадания; в другой же раз он, пожалуй, подметил бы в них мгновенное выражение давней, но подавляемой ненависти, что-то угрожающее и жестокое. Когда глаза синьоры были неподвижно устремлены вдаль, одни могли увидеть в этом гордое отсутствие всяких желаний, другие – биение затаенной мысли или какую-то внутреннюю тревогу, снедавшую эту душу и владевшую ею сильнее всего на свете. Необыкновенно бледное лицо ее имело тонкие и изящные очертания, заметно пострадавшие, однако, от медленного изнурения. Губы, едва розовеющие, все же резко выделялись на этом бледном фоне – движения их, как и движения глаз, были внезапны, живы, полны выражения и таинственности. Крупная, хорошо сложенная фигура проигрывала от известной небрежности в осанке либо казалась иногда нескладной от порывистых, угловатых движений, слишком решительных для женщины, не говоря уже о монахине. В самом одеянии кое-где сказывалась какая-то изысканность и прихотливость, говорившие о своеобразии этой монахини: лиф был отделан с каким-то светским изяществом, а из-под повязки на висок спускалась прядь черных волос – обстоятельство, свидетельствовавшее о забвении устава или пренебрежении к нему, ибо правила предписывали всегда носить волосы короткими, как они были обрезаны при торжественном обряде пострига.
Однако все это не произвело впечатления на женщин, не искушенных в монастырских порядках, а настоятель, видевший синьору не в первый раз, подобно многим другим, уже успел привыкнуть к странностям, которые замечались во всей особе и манерах синьоры.
Как мы сказали, в эту минуту она стояла у решетки, небрежно облокотившись на нее и сжав своими бескровными пальцами ее перекладины, и в упор глядела на Лючию, нерешительно подходившую к ней.
– Достопочтенная мать и сиятельнейшая синьора, – сказал настоятель, низко склонив голову и сложив руки на груди, – вот бедная девушка, которой вы, по моей просьбе, обещали свое высокое покровительство, а это ее мать.

Обе представленные отвешивали низкие поклоны. Движением руки синьора дала им понять, что довольно, и, обращаясь к монаху, сказала:
– Я счастлива, что могу сделать приятное нашим добрым друзьям, отцам капуцинам. Однако, – продолжала она, – расскажите мне несколько поподробнее историю этой девушки, чтобы стало ясно, что можно для нее сделать.
Лючия покраснела и опустила голову.
– Вы должны знать, достопочтенная мать… – начала было Аньезе, но настоятель взглядом прервал ее и отвечал:
– Сиятельнейшая синьора, девушку эту, как я уже вам сказал, поручил мне один из моих собратьев. Чтобы избежать серьезных опасностей, она вынуждена была тайно покинуть родную деревню, и вот теперь она на время нуждается в убежище, где могла бы жить в неизвестности и где никто не дерзнет беспокоить ее, даже если…
– Что же это за опасности? – прервала его синьора. – Пожалуйста, отец настоятель, не говорите загадками. Вы ведь знаете, что мы, монахини, большие охотницы до всяких историй, да еще и со всеми подробностями.

– Опасности эти таковы, – отвечал настоятель, – что до слуха достопочтенной матери они должны дойти лишь в виде самых легких намеков…
– Да, конечно, – торопливо сказала синьора, слегка покраснев.
Стыдливость ли заговорила в ней? Тот, кто заметил бы мимолетное выражение досады, сопровождавшее этот румянец, мог бы усомниться в этом, тем более если бы он сравнил его с тем румянцем, который порой заливал щеки Лючии.
– Достаточно сказать, – продолжал настоятель, – что один всемогущий кавалер… – не все великие мира сего употребляют дары Божьи во славу Божию и на пользу ближнему, как это делает ваше сиятельство, – один всемогущий кавалер некоторое время преследовал эту девушку низменными обольщениями, а затем, видя бесполезность своих попыток, решил прибегнуть к открытому насилию, так что бедняжка принуждена была бежать из собственного дома.
– Приблизьтесь же ко мне вы, та, что помоложе, – сказала синьора Лючии, поманив ее пальцем. – Я знаю, что устами отца настоятеля глаголет истина, но ведь никто не может быть осведомлен в этом деле лучше вас. И ваша обязанность сказать нам, действительно ли этот кавалер оказался гнусным преследователем.
Что касается первого, то Лючия тут же повиновалась и приблизилась к синьоре, но ответить ей – это уж было совсем другое дело. Если бы такой вопрос задал ей даже кто-нибудь из своих, она и то бы сильно смутилась; когда же его поставила эта важная синьора, да притом еще с каким-то оттенком насмешливого сомнения, у Лючии сразу пропала всякая охота отвечать.
– Синьора… достопочтенная… мать… – лепетала она, словно ей нечего было больше сказать.
Тут уж Аньезе сочла себя вправе прийти ей на помощь, как несомненно наиболее осведомленная после самой Лючии.
– Сиятельнейшая синьора, – сказала она, – я могу подтвердить, что дочь моя боялась этого кавалера как черт ладана, то есть я хочу сказать, что этот кавалер – сам дьявол. Уж вы меня простите, если я нескладно говорю, мы ведь люди простые. Дело в том, что моя бедная девочка была просватана за одного парня нашего же звания, богобоязненного скромного парня. И будь наш синьор курато настоящим мужчиной, в том смысле, как я понимаю… я знаю, что говорю об особе духовной, но ведь падре Кристофоро, друг отца настоятеля, тоже особа духовная, как и наш курато, а он человек милосердный, и будь он здесь, он мог бы подтвердить…
– Вы горазды говорить, когда вас не спрашивают, – гордо и гневно прервала ее синьора, при этом она стала почти безобразной. – Молчите, я и без вас знаю, что родители всегда берутся давать ответы за своих детей.
Уязвленная Аньезе бросила на Лючию взгляд, говоривший: «Видишь, как мне достается из-за твоей медлительности». Настоятель, в свою очередь, выразительно взглянул на девушку и кивнул головой в знак того, что настало время как-нибудь выпутываться и не оставлять на мели бедную мать.
– Достопочтенная синьора, – промолвила Лючия, – все, что сказала вам моя мать, чистая правда. Юноша, который за мной ухаживал… – она густо покраснела при этих словах, – я за него шла с охотой. Простите, что я так беззастенчиво говорю об этом, но я не хочу, чтобы вы плохо подумали о моей матери. А насчет этого синьора (да простит ему Бог!)… да я готова лучше умереть, чем попасть ему в руки. И если вы будете столь милостивы и укроете нас, раз уж нам приходится идти на это и искать убежища и беспокоить добрых людей… – да будет, однако, во всем воля Господня!.. – так будьте уверены, синьора, никто не станет молиться за вас горячее нас, бедных женщин.
– Вам я верю, – сказала синьора смягчившимся голосом. – Но мне хочется выслушать вас с глазу на глаз. Не потому, разумеется, что мне нужны дальнейшие разъяснения или доводы, чтобы удовлетворить горячую просьбу отца настоятеля, – продолжала она, – об этом я уже подумала. Вот как, по-моему, лучше всего поступить на первое время. Монастырская привратница несколько дней тому назад выдала замуж свою последнюю дочь. Эти женщины могут занять освободившуюся после нее комнату и исполнять те несложные обязанности, которые исполняла она. По правде говоря… – тут она подала знак настоятелю, который подошел к решетке, и продолжала вполголоса: – По правде говоря, ввиду скудного урожая, хотели было никем не заменять ушедшую девушку, но я поговорю с матерью аббатисой, а одно мое слово… да к тому же усердная просьба отца настоятеля… Словом, я считаю дело улаженным…
Настоятель стал было благодарить, но синьора прервала его:
– Не надо никаких церемоний: случись нужда, я тоже сумею прибегнуть к поддержке отцов капуцинов. В конце концов, – продолжала она с улыбкой, в которой сквозила какая-то горькая насмешка, – в конце концов, разве мы не братья и сестры?
Сказав это, она позвала одну из двух послушниц, приставленных к ней в виде исключения для личных услуг, и приказала ей уведомить о своем решении аббатису, а потом договориться с привратницей и с Аньезе. Она отослала последнюю, отпустила настоятеля и задержала Лючию. Настоятель проводил Аньезе до ворот, дав ей попутно новые указания, а сам пошел писать уведомительное письмо своему другу Кристофоро.
«Большая чудачка эта синьора! – думал он про себя дорогой. – Любопытная особа! Но кто сумеет задеть ее за живое, может заставить ее сделать все, что угодно. Кристофоро, верно, и не ожидал, что мне удастся так быстро и ловко все устроить. Чудный он человек! Ничего с ним не поделаешь – всегда-то он хлопочет, делая добрые дела. Хорошо, что на этот раз он нашел друга, который в мгновение ока все уладил, тихо и без особых хлопот. Добряк Кристофоро будет доволен и увидит, что и мы тут кое на что годимся».
Синьора, которая в присутствии бывалого капуцина взвешивала свои движения и слова, оставшись наедине с молоденькой неопытной крестьянкой, не считала более нужным сдерживаться, и речи ее мало-помалу стали настолько странными, что мы, вместо того чтобы приводить их, считаем более удобным кратко рассказать предшествующую историю несчастной, поскольку это необходимо для понимания всего необычайного и таинственного, связанного с ней, и для объяснения ее поведения в дальнейшем.
Она была младшей дочерью князя ***, известного миланского аристократа, который мог считаться одним из самых богатых людей в городе. Но высокое мнение, какое он имел о своем звании, делало в его глазах все его средства едва достаточными, даже скудными для поддержания блеска их древнего рода. Поэтому все его мысли были направлены к тому, чтобы попытаться, по крайней мере поскольку это зависело от него, сохранить эти средства такими, какими они были, – неделимыми на вечные времена. Сколько у него было детей, об этом наша история определенно не говорит: она лишь дает понять, что он обрекал на монашество младших детей обоего пола, чтобы оставить все состояние своему первенцу, предназначенному продолжать род, то есть народить детей, мучиться самому и мучить их тем же способом.
Наша несчастная была еще во чреве матери, когда ее судьба была бесповоротно решена. Оставалось только узнать, будет ли то монах или монахиня, для чего требовалось не согласие ребенка, а лишь появление его на свет. Когда девочка родилась, князь, ее отец, желая дать ей имя, которое непосредственно вызывало бы мысль о монастыре и которое носила святая именитого происхождения, назвал ее Гертрудой. Ее первыми игрушками были куклы, одетые монашенками, потом – маленькие изображения святых в монашеском же одеянии. Подарки эти всегда сопровождались длинными увещаниями беречь их как драгоценность и риторическим вопросом: «Красиво ведь, а?» Когда князь, княгиня или князек – единственный из мальчиков, воспитывавшийся дома, – хотели похвалить цветущий вид девочки, они, казалось, не находили для этого других слов, кроме как: «Что за мать аббатиса!» Никто, однако, никогда не говорил прямо: «Ты должна стать монахиней». Это была мысль, сама собой разумеющаяся; ее затрагивали попутно, при всяком разговоре, касавшемся будущего девочки. Если Гертруда позволяла себе иногда какой-нибудь дерзкий и вызывающий поступок, к чему она по своей натуре была весьма склонна, ей говорили: «Ты – девочка, тебе не подобает вести себя так; когда станешь матерью аббатисой, тогда и будешь командовать и переворачивать все хоть вверх дном». Порой же князь, отчитывая дочь за слишком свободное и непринужденное поведение, над которым она не задумывалась, говорил ей: «Ох-ох! Девочке твоего звания не следует так вести себя; если ты хочешь, чтобы в свое время тебе оказывали подобающее уважение, учись смолоду владеть собой: помни, что в монастыре ты во всем должна быть первой, – ведь знатная кровь должна сказываться всюду».
Все это внушало девочке мысль, что ее удел – стать монахиней. Но слова отца оказывали на нее действие, которое было сильнее всяких иных слов. Князь во всем проявлял себя полновластным хозяином, а когда речь заходила о будущем положении его детей, в лице и в каждом слове его сквозила непоколебимая решимость и неумолимая суровая властность, производившая на окружающих впечатление роковой необходимости.
Шести лет Гертруду отдали на воспитание, вернее, для подготовки к призванию, на которое ее обрекли, – в монастырь, где мы ее встретили. Самое место выбрано было с определенным намерением. Добрый руководитель наших двух женщин сказал, что отец синьоры был первым человеком в Монце. Добавив это, какое ни на есть, свидетельство к некоторым другим указаниям, которые наш аноним как бы нечаянно роняет то тут, то там, мы можем даже утверждать, что он был местным феодалом. Во всяком случае, он пользовался огромным влиянием и не без основания полагал, что там скорее, чем где-либо, дочь его будет принята с той отменной любезностью и утонченностью, которые побудят ее избрать этот монастырь местом своего постоянного пребывания. И он не ошибся: аббатиса и некоторые другие монахини-интриганки, которые, что называется, верховодили в монастыре, возликовали, увидя, что к ним в руки попадает залог покровительства, столь ценного при всяких обстоятельствах, столь славного в любое время. Они приняли предложение с изъявлениями благодарности, не чрезмерными, хотя и весьма выразительными, и полностью поддержали проскользнувшие у князя в разговоре планы насчет постоянного помещения дочери в монастырь, – планы эти полностью совпадали с их собственными.
Как только Гертруда вступила в монастырь, ее стали называть не по имени, а синьориной. Ей отвели почетное место за столом, в спальне, ее поведение ставилось в образец другим; на долю ей выпадали бесконечные подарки и ласковое обращение, приправленное несколько почтительной фамильярностью, которая так привлекает детей к тем, кто у них на глазах относится к другим детям несколько свысока. Не то чтобы все монахини сговорились заманить бедняжку в сети: среди них было много простых женщин, далеких от всяких интриг. Даже сама мысль принести девушку в жертву каким-то корыстным целям вызвала бы у них отвращение. Но все они, поглощенные своими личными делами, либо не замечали всех этих уловок, либо не понимали, сколько в них таится зла. Одни просто не вникали в это дело, другие молчали, не желая затевать бесполезного шума. Иная из них, вспоминая, как и ее в свое время подобными же приемами довели до того, в чем она позднее раскаивалась, чувствовала сострадание к невинной бедняжке и находила выход своему чувству, оказывая ей нежную и грустную ласку, – а та и не подозревала, что под этим кроется какая-то тайна. И все продолжало идти своим чередом.

Так, пожалуй, все и шло бы до самого конца, если бы Гертруда была единственной девочкой в этом монастыре. Но среди ее подруг по воспитанию было несколько таких, которые знали, что им предстоит замужество. Гертруда, воспитанная в мыслях о своем превосходстве, с гордостью говорившая о своей будущей роли аббатисы, начальницы монастыря, во что бы то ни стало хотела быть предметом зависти для других и с удивлением и обидой видела, что некоторые из девочек нисколько ей не завидовали. Картинам величавого, но ограниченного и холодного превосходства, какое могло обеспечить первенство в монастыре, они противопоставляли разнообразные и заманчивые картины свадеб, званых обедов, пирушек, – как выражались тогда – веселой жизни в поместьях, блестящих туалетов и экипажей. Эти рассказы будоражили Гертруду, как большая корзина только что собранных цветов, поставленная перед ульем, будоражит рой пчел: в голове у нее шумело, мозг лихорадочно работал. Родители и воспитатели усердно развивали в ней прирожденное тщеславие, желая заставить ее полюбить монастырь; но когда эта страсть нашла себе применение в представлениях более близких натуре девочки, она набросилась на них с увлечением гораздо более живым и непосредственным.
Чтобы не быть хуже своих подруг и вместе с тем следовать своей новой склонности, она отвечала подругам, что ведь, в конце концов, никто не вправе постричь ее без ее согласия; ведь и она может вступить в брак, поселиться во дворце, наслаждаться светской жизнью, и даже больше, чем они, и она может сделать это, стоит ей только захотеть, – а она, пожалуй, не прочь, – и, наконец, что она прямо-таки хочет этого, – да и в самом деле, она стала желать этого. Мысль о необходимости ее согласия, до той поры таившаяся где-то в дальнем уголке ее сознания, теперь развернулась и обнаружилась во всей своей полноте. Гертруда ежеминутно призывала ее на помощь, чтобы спокойнее наслаждаться образами заманчивого будущего. Однако за этой мыслью всегда появлялась другая: отказать в своем согласии нужно было князю-отцу, который уже заручился им или, во всяком случае, считал, что оно уже дано; и при этой мысли душа девушки была весьма далека от той уверенности, какую выражали ее слова. Тогда она начинала сравнивать себя с подругами, уверенность которых была несколько иной, и чувствовала к ним ту острую зависть, какую она первоначально сама хотела внушить им. Завидуя, она ненавидела их; порой ненависть ее изливалась в обидах, в резких выходках, в колких словах, порой общность наклонностей и надежд усыпляла эту ненависть, уступая место непрочной мимолетной близости. Иногда, желая насладиться хоть чем-нибудь подлинным и настоящим, Гертруда находила удовлетворение в тех преимуществах, которыми она пользовалась, и давала почувствовать другим свое превосходство. Иногда, не имея больше сил выносить в одиночестве тяжесть сомнений и несбыточных желаний, она шла к подругам, ища у них отклика, совета, поддержки.
В этой тяжкой борьбе с собой и с другими прошло ее детство, и она вступила в тот критический возраст, когда в душу входит как бы таинственная сила, которая поднимает, украшает, укрепляет все стремления, все мечты человека, а иногда даже преображает их или дает им непредвиденное направление. Раньше Гертруда в грезах о будущем особенно ярко рисовала себе пышный блеск и великолепие; теперь же что-то трогательное и нежное, прежде лишь легким туманом окутывавшее душу девушки, стало разрастаться и заполнило ее мечты. В самом затаенном уголке ее сознания возникло словно какое-то великолепное убежище: сюда укрывалась она от окружающей действительности, здесь отводила место тем причудливым образам, что возникали из смутных воспоминаний детства, из того немногого, что она успела увидеть в мире, и того, что она узнала из разговоров с подругами. Она сжилась с этими образами, говорила с ними, отвечала себе от их имени, отдавала приказания и принимала всевозможные знаки уважения. Порой мысли о религии смущали эти блестящие и столь утомительные видения. Но религия в той форме, в какой ее преподносили нашей бедняжке и в какой она ее воспринимала, не устраняла гордыни, а, наоборот, скорее освящала ее как средство для достижения земного счастья. Лишенная тем самым своей сущности, это была уже не религия, а призрак, подобный другим. Когда этот призрак выступал вперед и воцарялся в мечтах Гертруды, злосчастная, одолеваемая неясным страхом и смутным сознанием своего долга, воображала, что ее отвращение к монастырю и борьба с внушением своих родителей относительно выбора призвания являются греховными, и давала себе обещание искупить этот грех, добровольно затворившись в монастыре.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе