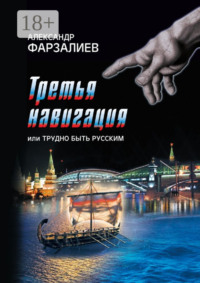Читать книгу: «Третья навигация, или Трудно быть русским», страница 2
Нельзя сказать, что они начинают жить какой-то обособленной жизнью. Просто в сфере познания образы эти приобретают ту непротиворечивость и простоту, что впору уже говорить о теории познания, в которой образы, символы, аллегоризм и буквализм являются составными частями и элементами теории, поддерживающими друг друга, а не противоречащими друг другу, работающими как слаженный механизм.
6
Библия, «помещённая» в эту среду – познание истины – начинает приносить плоды сакрального смысла. Правда, точнее было бы сказать, что из этой среды Библия никогда и не пропадала, независимо от того, сколько раз её оттуда вынимали, приспосабливая под свои нужды.
Более того, благодаря аллегорическому методу, через её призму становится возможным видеть процессы, происходящие и в самом человеке, и в том, что его окружает, в мире.
Иначе говоря, можно говорить о Библии как о самом точном зрительном приборе, позволяющем видеть вплоть до мельчайших деталей внутренний мир человека и мир внешний.
Мне и здесь повезло, я смог заглянуть в оба эти мира. Правда, в этом случае может показаться удивительным и не вызывающим поначалу доверия тот факт, что Библия предстаёт сразу в двух ипостасях.
Она выглядит как микроскоп, когда речь идёт о человеческой природе и мире наших желаний, и она же становится телескопом, если рассматривать мир внешний и происходящие в нём процессы.
С другой стороны, а что же здесь удивительного? Ведь все вместе и каждый человек в отдельности познают со дня рождения мир внешний, и затем мир внутренний. Это очевидно и не требует доказательств сверх меры, достаточно заглянуть в самих себя, чтобы считать этот факт доказанным.
Я не говорю уже о том, что самое удивительное состоит, на мой взгляд, в обратном. Очень часто Библию использовали как молот или меч в борьбе с концепциями и теориями, противоречащими (что, впрочем, лишь видимость) религиозному взгляду на мир. Взять, к примеру, Птолемея и Коперника. Во что это вылилось, всем известно.
Однако в познании истины эта область применения священных текстов – война слов и, к сожалению, людей – давно себя исчерпала и обесценилась. Формат войны оказался для Библии настолько же мал, как контекст культуры или искусства.
Иначе говоря, с Божьей ли помощью или без неё (а без неё ничего и не возможно), автор (но и здесь встаёт вопрос: а собственно, автор ли?) перековал тот молот или меч не в орало даже, а в зрительный прибор. В нём в качестве линз выступают всё-таки два метода толкования – буквальный и лишь затем аллегорический.
Я бы погрешил против истины, если бы вёл речь только об аллегориях Священного Писания. Ведь нельзя отрицать, что каждый человек мыслит как прямо (без околичностей), так и образно. Стало быть, настаивать только лишь на одном аллегоризме в отсутствии иных способов видения реальности было бы заблуждением. Тем более непростительным, что любой знает: смотреть двумя глазами гораздо удобнее, чем одним.
Да, аллегорический язык необходим и даже насущен. Однако при всём том нечего надеяться на то, что только с его помощью можно увидеть нечто новое в веках: «Нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1:9).
При взгляде же на мир и человека через буквальные ли линзы, аллегорические ли, ты видишь то же самое, что до тебя видели другие, начиная с древних греков (Аристотель, Сократ и пр.). Ты видишь то же самое, о чём говорит иудейская традиция, христианские отцы церкви или ислам. Ничего нового!
Единственное преимущество аллегоризма состоит в том (надо признать, преимущество это неоспоримо), что ты видишь всё гораздо яснее и отчётливее. Видимое становится до такой степени ясным и простым, что многие вещи, сказанные ранее о познании, становятся просто ненужными. Они исчезают как аберрация зрения, когда вместо брёвен, вынутых из глаз, туда бывают вставлены два даже не хрусталика, а алмаза, один из которых – аллегорический язык Писания.
7
С другой стороны, аллегоризм создаёт сложности, исключая подчинение принципу: «Всё просто. Как написано, так и понимай». Исключает до забвения. Как оказывается, всё непросто. Всё ещё проще, хотя и связано с определёнными трудностями.
Хотя какие уж тут трудности! Символы и образы окружают нас. Не замечать, не видеть этого просто невозможно. Другое дело, что ум наш изначально не приспособлен к тому, чтобы перенести те символы и аллегории, которые мы воочию наблюдаем в мире, на библейскую почву. Этого, впрочем, от нас никто и не требует. Речь о принципе. Образы и символы есть, как в окружающем нас мире, так и в нас самих. Почему же мы должны отказать Библии в том, что и она имеет аллегорический смысл и даже основу?
Кстати, о принципе. Вот вполне наглядный пример: всем знаком дорожный знак «кирпич». Никакой иронии. Абсолютно. Просто кирпич никак не вяжется с тем, какой смысл в нём заключён. Хотя многие знают, каково наказание за проезд под этот запрещающий знак.
С Писанием обстоит всё точно так же. К примеру, символика стихий говорит о том, что библейская земля в аллегорическом свете есть вера человека. И земля в обыденном сознании тоже никоим образом не срастается с тем смыслом, какой она несёт в аллегорическом пространстве. Ну и что же здесь странного?
Я не буду здесь переходить непосредственно к толкованию образов и символов Писания. Достаточно одного примера, чтобы убедиться в том, что и Библия, и мир, в котором мы обитаем, полны, даже переполнены аллегориями и символами.
Напрасно думать, хотя так многие и думают, что Библия есть нечто настолько высокое и недостижимое, что человек не в силах вместить понятий о небесном. Наоборот, Библия, прежде всего, приспособлена к человеческому разумению. И написана она, несомненно, для человека.
Стало быть, мы все имеем-таки возможность понимать то, о чём говорится в Писании, помимо того, что уже известно об этом. С другой стороны, в аллегорическом пространстве тоже есть свои сложности. Я, разумеется, не буду (а если б мог, то не стал бы этого делать) расставлять светофоры в библейских текстах или знаки типа «кирпича». Подобных радетелей «за Священное Писание» достаточно и без меня.
Однако понятно, что такой способ прочтения текстов Библии, как «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся» (Кол. 2:21), тоже не годится, и нарушать общепринятые правила движения в библейском поле всё же придётся.
Однако тому, кто рискнёт ходить в аллегорическом пространстве, придётся смириться с налагаемыми ограничениями. Одно из них изложено апостолом Павлом: «Не духовное прежде, а душевное, потом духовное» (1 Кор. 15:46). Второе правило менее сложно и более понятно, оно гласит: один символ Писания содержит в себе один образ и смысл.
Для примера возьму образ земли, в которой скрыта вера человека. Чтобы это утверждение не выглядело голословным, подкреплю его словами апостола: «Хозяйство мира – из четырёх видов, в хранилище их содержат: из воды, земли, воздуха и света. И хозяйство Бога подобно этому из четырёх: из веры, надежды, любви и знания. Наша земля – это вера, в которую мы пустили корень, вода – это надежда, которой [мы] питаемся, воздух – это любовь, благодаря [которой] мы растём, а свет – [это] знание, [благодаря] которому мы созреваем» (Филипп 115).
Этот смысл один, одним всегда и останется. Иное дело, что земля может быть плодородной, а может произрастить тернии и волчцы. Однако их качественное различие не отменяет единственности истолкованного образа. Библейская земля всегда есть вера человека, по которой он ходит.
Такой аллегоризм понятен, он следует из природной сути вещей, а не притянут за уши. В нём нет надуманных сложностей, призванных, как правило, произвести впечатление на неофитов.
Повторю, Библия приспособлена к человеческому разумению. Остальное зависит от области применения. Тема книги постулирует, что область применения Библии – видавший виды программный пакет – познание истины.
Правда, не все умеют им пользоваться. Вот наглядный пример. Вряд ли можно счесть случайностью, что компьютерные символы названы «иконками». Что я хочу сказать?
Нажав курсором на известную нам «иконку», мы уже без всякого труда получаем доступ к такому кладезю информации и знаний, который был недоступен человеку каких-то десять-двадцать лет назад. Точно так же обстоит дело и с Писанием. Предлагаю читателю считать курсором цель Творца – познание истины.
Поверь, читатель, при умелом обращении и определённых усилиях эта «иконка» выдаст столько, что не могло присниться всем теологам и философам вкупе с научными деятелями.
К читателю
1
В предыдущей книге – «Идентификация Бога» – были раскрыты образы апостолов Христа – тех помощников в познании истины, без которых невозможно обойтись, о чём свидетельствует тот факт, что Иисус сам избрал их на это служение.
Безусловно, говорить о том, что круг обязанностей апостолов превосходит значимость Иисуса, не приходится, но равным образом мы не можем игнорировать их содействие в познавательном процессе, отдавая предпочтение во всех вопросах, на которые человек ищет ответы, Спасителю.
Одним из сих апостолов является история, помогающая в познании точно так же, как и другие ученики Христа. Однако роль Матфея (а именно он в символическом пространстве и представляет собой историческую науку, собирающую подати в сокровищницу истины) хоть и была раскрыта практически полностью, для исчерпывающего ответа недоставало ярких иллюстраций, наглядно подтверждающих апостольское звание истории.
Восполним недостаток, помня о том, что любой из апостолов следует за Христом, а не наоборот. Иначе говоря, личная история, история страны, да и самого мира, не объясняют библейских притч, чудес или иносказаний. Это как раз и есть грубейшая методическая ошибка, приводящая к искажению, за которым правды не найти.
Другое дело, когда любая из вышеперечисленных разновидностей истории правильно размещена в контексте притчи. В нашем случае речь пойдёт об одной из самых удивительных притч – притче «О блудном сыне», ибо это, пожалуй, единственное в своём роде иносказание, которое при умелом использовании может объяснить практически всё.
Быть может, кому-то подобная точка зрения покажется беззастенчиво претенциозной, однако способность сей притчи озарять своим светом многие аспекты бытия поистине поразительна. Более того, способность эта не ограничивается просто некими выводами. Главное её достоинство – передавать неискажённый и чистый смысл многих феноменов. История здесь не исключение.
Прежде чем начать разговор об истории, который я хочу предложить вниманию читателя, призываю каждого, кто будет читать сии строки, представить себя на месте блудного сына. Это не так уж и трудно сделать, обладай человек хоть толикой воображения. Впрочем, осуществить это не составит большого труда и без воображения, ведь практически любой человек если и не читал притчу «О блудном сыне», то хотя бы слышал о ней. Ассоциировать же себя с главным персонажем притчи приходится всем нам. Это особенно заметно, когда нас постигают те или иные несчастья.
То, о чём пойдёт речь, есть, бесспорно, история, которую можно охарактеризовать одним словом – другая. Конечно, не в том смысле, что она противоречит всему известному о России. Просто в её свете прошедшие, нынешние, да и будущие (отнюдь не самонадеянность) события, факты и казусы нашей действительности приобретают естественный вид, лишённый предвзятости.
Правда, свет сей бывает настолько ярок, что смотреть на такую историю нет никакого желания, иногда хочется лишь зажмуриться и ничего не видеть. Однако сидеть всё время во тьме тоже не получается. Необходимы свет знания и вера, которые помогут сделать смысл бытия простым настолько, насколько в каждом из нас действенны эти понятия. И эта история не упала с неба. Поэтому предлагаю читателю не сразу же верить мне, а призываю тех, кто будет читать сии строки, поверить себе.
Тогда, быть может, свечение аллегории поможет увидеть всем известные факты под несколько иным углом зрения. Я точно знаю, что не открыл ничего нового (лишь хотел этого), поэтому сразу заявляю, в труде нет «самоновейших» небесных истин, нашёптанных неким голосом. И прежде чем освещать старые факты новым светом, призываю читателя сначала не верить самим фактам, но, не мудрствуя лукаво, увидеть их внутри своего личного бытия. Хотя, правду сказать, по большей части мы им и не верим, а в силу лености думать доверяем «авторитетным» интерпретаторам фактов вне нас.
Разумеется, и внутри никто не застрахован от ошибок, что касается и автора. Правда, мне удалось избежать большинства уловок человеческой мысли (пусть и с большим трудом), подстраиваемых под тот уровень знаний и совести, которым индивид обладает на тот или иной момент своего личного существования. В этом помогли, не устану об этом напоминать, Библия и один из методов её интерпретации.
Метод не нов, хотя и основательно забыт. Выше я уже говорил о нём. И хотя поначалу представляется, что такой метод достижения поставленной цели имеет отношение только к Библии и духовному миру, впоследствии мы все рано или поздно убеждаемся в том, что обыденная жизнь тоже аллегорична и символична, более того, созвучна библейскому содержанию. История не является исключением, в её лоне аллегоризм позволяет чуть иначе рассмотреть не только всем известные библейские сюжеты и события, но и действительные явления исторического плана.
Однако напомню, пусть читатель оставит надежду найти в этой истории нечто «новое», я не переписываю историю. На поверку всё оказывается хорошо забытым «старым» с одной существенной оговоркой: это самое «старое» освещено сиянием аллегории, преимущество коего в том, что оно делает историческую картину детально более чёткой и ясной.
Происходит это потому, что иносказательная подсветка позволяет нам увидеть историческую картину целиком, а не составлять её последовательно – мазок за мазком – из набора тех сведений и фактов, что предлагает нам историческая наука вообще, историография и хронология в частности. Известно, что вплоть до XIX века историю обычно воспринимали как результат линейного развития по плану, определённому Творцом.
По сути, предлагаемая вниманию читателя история не является историей в общепринятом смысле, не говоря уже о линейном её развитии. В аллегорическом освещении меняется и смысл самого слова «история». Общим местом остаётся лишь то, что история есть область знаний. Речь пойдёт о такой области знаний, которая описывает истинное положение дел, не зависящее ни от человеческих пристрастий, ни от последовательности событий.
Кстати, о событиях. То, что происходит во все времена, к примеру, в России, с рассказа об истории которой я и начну книгу, подтверждает тот факт, что «вся история – современная история», как об этом заявил итальянский мыслитель Бенедетто Кроче. Глядя на нашу историю, с таким заключением невозможно не согласиться.
Инкрустация русской истории в библейское пространство и в контекст притчи позволит обеспечить истинное изложение хода нашей истории путём рассказов о событиях и их беспристрастного анализа.
Что касается Библии, то толкованию её образов и символов посвящена вышеназванная книга. Труд, предлагаемый вниманию читателя, знакомит с аллегорической историей страны, где мы родились и растём. Точнее сказать, с историей, увиденной через библейский визир. Аллегория же помогает ей, подобно оптической силе линз, собирающих лучи, быть как положительной, так и отрицательной, но без коннотаций типа «добро или зло». При взгляде во внутренний мир человека она действует, словно рассеивающие линзы, придавая нечётким и далеко не всегда понятным духовным образам свойство становиться видимыми и даже осязаемыми для ума. Когда взор переносится в мир внешний, эти линзы становятся собирающими, как для людей дальнозорких, позволяя увидеть в событиях разного калибра единую суть. Правда, с одним условием: надо захотеть надеть их на свои глаза. А сие возможно только в том случае, если человек считает, что он мало видит и понимает в Священном Писании, равно как и в русской истории.
Чтобы понять «мою» историю Руси (впрочем, как и других стран), читатель должен принять во внимание один факт: человек сотворён Богом для познания истины.
Действительно достойная и высокая цель, включающая в себя все человеческие замыслы. Надеюсь, подобный уровень предназначения человеческого бытия и жизни вообще поможет читателю при прочтении книги не только иметь в виду смысл нашего существования, но и принять его за истину.
Ещё одно замечание: духовный смысл не существует сам по себе, он содержится в буквальном, плотском смысле как Библии, так и самого бытия. Аллегорический метод толкования лишь помогает сделать духовный смысл явным. Однако применять сей метод нужно только в контексте чего-либо.
Точнее сказать, аллегоризм полезен именно как линзы, благодаря которым мы лучше видим. Непосредственно оптическим прибором является Библия, будь то ветхозаветное или новозаветное речение, чудо или притча, куда помещаются иносказательные линзы.
При этом нет разницы, рассматриваем ли мы человека, принимающего во все времена участие в процессе познания, или народы, населяющие территории и страны. Различие только в масштабах.
2
Итак, притча:
«Ещё сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих. Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё моё твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (Лук. 15:11—32).
Проецируя религиозные течения в контекст притчи, было установлено, что христианство в смысле близости к Богу «проигрывает» по всем статьям иудаизму и исламу и находится (как ни прискорбно для некоторых) в самом отдалённом от Создателя состоянии.
Это можно утверждать хотя бы на том основании, что для иудеев и мусульман Иисус не является Спасителем. Безусловно, о Нём они слышали, но Христос для них не более чем пророк, и это в лучшем случае.
Для христиан же образ Иисуса имеет непреходящее значение во все времена. Конечно, этот факт не может служить доказательством того, что именно наличие Посредника между Богом и человеком делает последнего отстоящим от Бога настолько далеко, что ему остаётся только восклицать, подобно блудному сыну.
Скорее наоборот, именно присутствие Спасителя в лоне христианства делает Его последователей в собственных глазах более приближёнными к Богу, нежели иудеи и мусульмане.
Оговорюсь сразу, обе сии точки зрения далеки от истины. Для Творца важен и необходим любой человек. Надеюсь, доказывать это никому не надо, ибо грош цена вере человека или собранию людей, если они считают себя в чём-то выше и нужнее Богу, чем другие люди. Напомню, для Создателя важна любая человеческая индивидуальность, ибо познание истины для Бога осуществляется именно через человека.
Разумеется, всеведение Господа имеет разумные основания и зиждется на том, что Его создания находятся одновременно (только для Бога) на всех этапах нисхождения с небес и восхождения к ним.
В этом смысле добираться до Вседержителя из самого далёка выглядит даже более почётным делом, нежели находиться от Него в двух шагах. Тем более что пресловутая близость ровным счётом ничего не доказывает, кроме одного обстоятельства.
На основании библейских данных было также доказано, что иудеи являются теми представителями рода человеческого, кто в духовном смысле только что покинул Отчий дом. Мусульмане же оказываются образом тех, кто по возвращении, иносказательно говоря, первым пересекает порог некогда покинутого дома.
Разумеется, считающие себя христианами (даже из числа причисляющих себя к разумным людям) вряд ли согласятся с такой точкой зрения. Впрочем, это как раз и несущественно.
Важен другой факт: Творцу необходимы все ступени познания. Символически они обозначены путём блудного сына из одноимённой притчи. Что же делать, если в духовном пространстве христиане оказались в самом отдалённом от Бога месте?
А надо ли что-то делать, читатель? Не лучше ли понять, что именно стоит за таким положением вещей в мире? Этим мы и займёмся на страницах сего труда.
3
Безусловно, среди тех, кто считает себя православным христианином или является просто русским человеком без принадлежности к православию, очень немногие смогут признаться себе в том, что находятся очень далеко от того совершенства, называемого Богом, Творцом, Абсолютом.
Кому-то из читателей может показаться странностью, быть может, даже противоречием, то, что я называю далеко отстоящими от Бога то всех христиан, то лишь часть из них, называемую «русский народ».
На самом деле здесь нет почвы для разногласий, ведь можно находиться в нескольких километрах от бездны, даже в метре от неё, но иное дело – самый край бездонья.
Согласно логике притчи, было установлено, жителем какой именно библейской области оказывается тот народ, который в мире называется «русскими людьми».
Разумеется, бессмысленно искать это место на географической карте, найдём мы его только в Библии. Равно бесполезной будет попытка определить и название этой страны в Писании, в притче же она незатейливо именуется «дальняя сторона» (Лк. 15:13).
Каким бы противоречивым и даже шокирующим ни было сие умозаключение для читателя, не знакомого с нашей предыдущей интерпретацией о роли, которую играют Россия и русские люди, мне бы хотелось, чтобы читатель повременил со скоропалительными обвинениями и обличениями, основанными на прежнем знании истории.
В том, что мы, в сущности, есть те, кто населяет сию пресловутую «дальнюю сторону», нет абсолютно ничего предосудительного или, как сказал бы человек моральный, плохого. Ведь критериев, по которым можно определить, насколько далеко или близко мы от Бога, нет. Разве что психология. Однако не буду забегать вперёд.
Безусловно, с буквальной точки зрения «моя» история входит в противоречие с утверждением, что русские есть народ-богоносец. Однако я докажу обратное. Пребывание в дальней от Бога стороне и в то же время богоносительство не являются дисгармонией смысла предлагаемой вниманию читателя истории. В нашем случае они скорее дополняют друг друга, нежели противоречат.
Впрочем, претензии на богоносительство присущи в той или иной мере всем народам, однако поистине быть теми, кто носит Бога в себе, для многих людей непосильная задача. Отнюдь не потому, что они «плохие» люди, а оттого, что это под силу далеко не всякому народу.
На процесс познания можно смотреть по-разному. Кто-то из читателей, даже согласившись с кажущейся незавидной ролью вообще христианства и христианства православного в частности, удовольствуется подобным разумением, тихо лелея своё дутое (мусульманское, иудейское или ещё какое-нибудь) превосходство. Кто-то, будучи в лоне самого христианства, будет отрицать очевидное положение вещей. Но для ясного разумения этого оказывается мало. Ведь обе точки зрения не объясняют всего. Однако должен быть окончательный ответ, его просто не может не быть. Потратим же на поиски решения задачи некоторое время.
По человеческому рассуждению, находиться на самом краю познания истины можно доверить только тому, кто на это способен. Предлагаю читателю посмотреть на самое отдалённое от Бога состояние человека именно под этим углом зрения.
Согласись, читатель, процесс познания, да и сам термин «познание» – понятие настолько ёмкое, что его не опишешь не то что в двух словах, а в двух книгах. Разумеется, процесс подразумевает как спокойное течение, так и критические, пограничные состояния.
Стоит согласиться с тем, что относящиеся к процессу познания и сопутствующему состоянию определения, в которых человек находится, когда познаёт нечто – критические или пограничные – мало что говорят. Правда, до тех лишь пор, пока мы сами не попадаем в критические ситуации, порою на границе жизни и смерти.
Если говорить о людях и странах, населённых теми или иными народами, то критические состояния испытывает каждый человек, страна или народ. Разнятся лишь условия, в которых происходит познание человеком подобных событий и вещей.
В этом смысле русский народ – поистине народ, избранный Богом для познания того, что невмоготу другим народам. Причины, по которым происходит всё именно так, а не иначе, станут понятны читателю после знакомства с историей Руси, освещённой сиянием аллегории.
4
Прежде чем излагать историю страны, в которой мы живём, небольшое вступление. Оно касается способа изложения. В первых двух главах речь будет вестись от первого лица, в остальных по традиции я буду употреблять местоимение «мы», подразумевая под этим то, что книга писалась не только определённой личностью, но у неё был и есть некий помощник.
Сказать, что первые две главы, предлагаемые вниманию читателя, писались без этого пресловутого содеятеля, у меня язык не повернётся. Скорее следует думать, что это он использовал меня как инструмент для выражения своих взглядов. Я говорю о желании. Однако настаивать на подобном мнении я не буду ввиду того, что это факт малозначительный.
Такое разночтение, точнее сказать, разнописание, связано с одним простым обстоятельством: я родился и живу в России. Библейские просторы стали моей родиной лишь к тридцати годам как способ познания бытия. Намеренно, нет ли, но в исторических повествованиях незримо присутствует «я». Даже если речь идёт об аллегорической истории, место нашего (читателя и автора) пребывания неизменно – Россия.
Ещё одна (быть может, основная) причина вести речь в первых двух главах от первого лица заключается в том, что познанное и понятое о себе, о мироздании, о людях вообще, о (чего скромничать!) Творце просто обязывает быть беспристрастным – так есть, и было, и будет – ничего с этим не поделаешь.
С другой стороны, диалоги о родине всегда превращаются в толковище с пристрастием, где «я» присутствует уже абсолютно намеренно, независимо от того, какой именно родине мы оказываем лицеприятие. С этим (к сожалению ли, к счастью ли) тоже ничего сотворить нельзя.
Как ничего нельзя сделать и с тем, что конечно же, любой автор считает сказанное им истиной. В Священном Писании, через призму которого читатель будет смотреть сейчас на историю России, для подтверждения сказанного часто звучит слово «аминь», что значит: «истинно, верно». Мне бы тоже хотелось об аллегорической российской истории сказать именно так: аминь.
Однако в силу того, что мне заранее известно, как отнесутся к моим словам об истории Руси, скажу иначе: авось обойдётся.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе