Образование Великорусского государства.Очерки по истории
Текст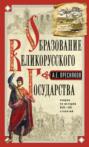


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 76,90 ₽
- Объем: 830 стр. 1 иллюстрация
- Жанр: история Древнего мира, история России
Волнения не утихли после бегства князя Андрея. Сквозь отрывочные записи, какие сохранили дошедшие до нас летописные своды, выступают черты напряженной тревоги и жажды противодействия, с какими Русь встретила первые моменты организации татарского владычества. С этими настроениями, а не с какими-либо междукняжескими счетами правильнее связывать известие о том, что в начале 1254 г. тверской князь Ярослав, «оставя свою отчину», ушел «с боярами своими» в Ладогу и во Псков[127]. Отсюда его призвали к себе новгородцы, выгнав из города Александрова сына Василия. Василий удержался в Торжке до прибытия великого князя Александра, и новгородцы смирились, приняли его снова на княжение[128]. Та черта этих волнений, что за Василия Александровича стояли бояре новгородские, а против него – черные люди, связывает их с дальнейшими событиями, когда на Русь явились татарские «численники». В татарское «число» были ими сперва положены Суздальская, Рязанская и Муромская земли, причем татары «ставиша десятники и сотники, и тысящники, и темники». Затем пришел черед исчислению Новгородской земли. По первым же вестям об этом «мятошася людие через все лето в Новгороде», а когда в Новгород прибыл великий князь Александр с татарскими послами, из Новгорода бежал во Псков сын его Василий. Александр вывел сына из Пскова, сослал его «на Низ» и сурово покарал его советников, «кои князя Василья на зло повели»[129]. Однако новгородцы не допустили сбора «десятины и тамги»: «не яшася по то», хотя дали дары царю и послов отпустили с миром. Только через год страх нового татарского нашествия на Русь привел новгородцев к горькой покорности; и то «бысть мятеж велик в Новегороде», когда «раздвоишася людие и створиша супор: большие веляху меншим ятися по число, а они не хотяху»[130]. Великому князю Александру пришлось дать стражу для охраны ордынских послов, но дело, в конце концов, уладилось: «окаянные» уехали «вземше число», а великий князь Александр посадил в Новгороде на княжение сына Дмитрия. Вскоре поднялось волнение против «насилия поганых» по городам «низовской» земли: народное восстание выгнало из Владимира и Суздаля, Ярославля и Переяславля «бесермен» – откупщиков татарской дани и их сборщиков. Великий князь Александр поспешил в Орду к хану, «дабы отмолил люди от беды». Энергия и власть великого князя удержали русских людей от безнадежной траты сил в разрозненных вспышках противодействия иноземному игу. Для этого пришлось преодолеть не только брожение народного негодования, но и глубокие разногласия в княжеской и боярской среде[131]. Александр провел свою ордынскую политику: и в отношениях Руси к власти хана – он подлинный великий князь всей Северной Руси[132].
Таким же носителем великокняжеской власти видим Александра Ярославича и во внутренних делах Северной Руси, и в ее внешних отношениях. Его сын Василий отражает в 1253 г. набег Литвы на новгородские владения; в 1256 г. Александр, по вестям из Новгорода, что шведы ставят укрепления на реке Нарове, ходил «со всею силою, с новгородци и суждальцы» и «повоева Поморие все»; в тяжелую годину восстания против татар Александр, уезжая в Орду к хану, отправил брата Ярослава и сына Дмитрия и «все полки с ними» воевать вместе с новгородцами и союзной Литвой на Юрьев против немцев[133]. Неизбежная тягота борьбы с внешним врагом и невозможность вести ее на два фронта должны были сильно повлиять на политику Александра по отношению к татарам.
И внутри владимирского великого княжения еще не видно черт политического распада. Ростовские князья, братья Васильковичи, сыновья Василько Константиновича, по смерти отца «седоста в Ростове на княжении»; с 1251 г. младший, Глеб, княжит на Белоозере, но этим не разбито единство ростовской отчины[134]. Князь Глеб участвует во всех ростовских делах нераздельно с братом, и только после его смерти (на Ростовском княжении) настанет выделение Белозерского княжества из Ростовского в особую отчину Глебовичей, не без борьбы, однако, с Борисовичами, стоявшими за единство владения ею. Ростовские Васильковичи при великом князе Александре Ярославиче всецело его подручники. Они, видимо, сразу примкнули к его политике. Князь Борис был в Орде, когда там разыгралось трагическое дело Михаила Всеволодовича Черниговского, и вместе со своими боярами уговаривал Михаила «сотворить волю цареву». Глеб Василькович был первым из русских князей, который «оженися в Орде»[135]. Есть указания на особо близкие отношения Александра Невского к Васильковичам: с князем Борисом он посылает дары Улавчию, ордынскому временщику при хане Берке[136]; в Ростов едет из Новгорода, уладив тамошнюю смуту, поделиться успехом с епископом Кириллом и ростовскими князьями[137].
Великий князь играет первую роль в делах Ростовской епископии[138]. Ростовское княжество – лишь особый элемент в составе владимирского великого княжения.
Судьба Ярославля, который также входил в состав ростовской отчины Константиновичей и выпал на долю Всеволода Константиновича, а после его гибели в татарское лихолетье перешел к Всеволодичу Василию, сложилась весьма своеобразно в момент кончины этого князя, при владимирском княжении Андрея Ярославича[139]. Василий Всеволодович умер в 1249 г., оставив после себя вдову и дочь. Умер он во Владимире, где тогда же находились у князя Андрея – великий князь Александр и ростовские князья. На этом съезде князей и было, по-видимому, решено оставить Ярославль с волостями за вдовой-княгиней Ксенией и ее дочкой Марией Васильевной. Быть может, тогда же намечено было обручение ярославской княжны с Ростиславичем Федором, который княжил на Можайске[140], а благодаря этому браку «достася ему Ярославль». Это событие навсегда вырвало Ярославль из состава ростовской отчины. При великом князе Александре Ярославиче и долго позже – в Ярославле нет местной княжеской власти, которая играла бы более или менее заметную и самостоятельную роль, но нет и основания говорить о выходе Ярославля из прямой связи с великокняжеской властью[141].
В Угличе сидят третьестепенными князьями сыновья Владимира Константиновича, на которых и угасла эта линия ростовских князей[142].
Владельческое положение самого Александра Ярославича и его братьев было определено предсмертным рядом их отца: Святослав Всеволодович, заняв великое княжение, «сыновци свои посади по городом, якоже бе им отець урядил Ярослав»[143]. Мы не знаем содержания этого Ярославова уряженья, но предполагаем, что с ним совпадает распределение владений между Ярославичами при великом князе Ярославе, и позднее Александр на великом княжении сохраняет свое вотчинное отношение к Переяславлю, которое переходит и на его старшего сына, а на Переяславле он княжил еще при жизни отца. Есть основание признать, что Андрею Ярославичу назначены по «ряду» его отца – Городец Поволжский и Нижний Новгород[144]; в 1256 г. сюда он вернулся, как «в свою отчину», а в следующем получил ханское пожалование, стоившее великому князю Александру немалых даров ордынцу Улавчию и самому хану. Притом соглашение с братом придало к его владениям еще Суздаль. Князь Андрей не играл при брате сколько-нибудь самостоятельной роли, ездил с ним в Орду и в Новгород, исчезая в среде окружающих великого князя Александра князей; он пережил брата лишь на несколько месяцев. То же самое можно сказать и о третьем Ярославиче – Ярославе. После бурных событий начала 50-х гг. XIII в. Ярослав княжит спокойно в Твери, едет в 1258 г. с Александром в Орду, идет в 1262 г. от него в поход на немцев[145]. На Костроме сидел Василий Ярославич, которому в год кончины великого князя Александра лишь исполнилось 22 года; на княжение в Галиче мерянском умер в 1255 г. Константин Ярославич, ездивший от великого князя Ярослава Всеволодовича к великому хану в Монголию, а после него – его сын Давыд, о котором только и знаем, что скончался он в 1280 г., причем летопись называет его князем Галичским и Дмитровским[146].
Существование всех этих княжеских владений по-прежнему не говорит еще о подлинном политическом распаде Владимирского великого княжества. Великий князь Владимирский в эпоху Александра Ярославича Невского единый и бесспорный представитель всей Северной Руси перед ордынской властью, защитник всех ее областей перед напором западных врагов, распорядитель всех ее боевых сил. Но на отдельных «волостях» великого княжества «княжат и владеют» местные князья, которые имеют на то право, не зависящее от воли великого князя, то «семейно-вотчинное» право, которое издревле составляло основной элемент «княжого права в Древней Руси». Это право вотчинное, наследственное, приобретено, в принципе, самим рождением и семейное, так как его существо в праве всех сыновей владетельного князя на отцовское наследие – общую этим сыновьям «отчину». Реализуется оно либо согласно «ряду» отцу, который определяет, какую именно долю получит каждый из сыновей, либо – особенно для сыновей, малолетних в момент отцовской кончины, их наделением по воле дяди или старшего брата, которому они отцом «приказаны» или даны «на руки». Доли князей наследников в общей их отчине будут позднее называться «уделами» (XIII в. этого термина еще не знает), князья станут говорить о долях своих, как об «уделах вотчины своея», но для данного времени ни в терминологии, ни в существе владельческих отношений князей не видно ничего принципиально нового сравнительно с основами «княжого права» в Киевской Руси. Вотчинные тенденции княжого владения еще слишком подчинены силе политического единства Великороссии, которое имело опору во власти владимирского великого князя, чтобы могла развернуться на их основе определенно иная система отношений. Время великого князя Александра Ярославича напоминает, однако, тот момент в истории Киевской Руси, когда во главе ее стояли Владимир Мономах и сын его Мстислав. При значительной силе объединяющей великокняжеской власти, во внутреннем строе земли уже закреплены основы владельческого обособления сложившихся местных вотчинных княжений. Ростовские владения Константиновичей признаны особой наследственной владельческой единицей; определились вотчинные владения для всех князей – Ярославичей и их потомства. И сам великий князь Александр вотчич на Переяславле-Залесском, который один только и составляет отчину, в строгом смысле слова, его сыновей. Великокняжеская власть еще лишена надлежащей территориальной базы, ее главенство – чисто политическое, и в этом причина ее слабости и упадка. Внутренние силы страны организованы вне ее прямого воздействия по поместным княжествам и легко могут стать из опоры общей политики великорусских князей под главенством владимирского великого князя – фактором разрушения этого главенства и всего объединения, в условиях внутренней борьбы. По этому разрушительному пути и пойдет история Владимирского великого княжества после кончины великого князя Александра Ярославича. Давление татарского владычества, установившееся при его правлении с таким напряжением внутренних отношений Руси, несомненно, сыграло крупную роль в развитии упадка великокняжеской власти.
II
При великих князьях Ярославе Всеволодовиче и Александре Ярославиче лишь устанавливается татарское владычество над Северной Русью; утверждение определенных форм зависимости вызвало глубокий разлад в политических настроениях и княжеской и общественной среды. Наши источники сохранили лишь несколько указаний на этот разлад, отрывочных и часто глухих намеков, но и по ним видно, какой он был острый и напряженный. Александру Ярославичу удалось его преодолеть и найти для того опору в части князей, духовенства и боярства. Но едва ли будет преувеличением сказать, что авторитет великокняжеской власти вышел из эпохи Александра Невского сильно расшатанным; Александр поддерживал его не только личной энергией и личным влиянием, но и страхом татарской кары и прямой опорой в татарской силе[147]. Над великокняжеской властью стала новая власть, чужая и чуждая, но формально признанная и обладавшая грозной реальной силой. Она стала постоянным фактором внутренних политических отношений Великороссии, настолько самостоятельным и обособленным от коренных элементов русского традиционного политического строя, что ее влияние могло быть использовано в борьбе политических сил как в пользу, так и против усиления великокняжеской власти.
То же можно сказать и о другой опоре владимирских великих князей – обладании Великим Новгородом. Обладание это – необходимый момент в их политике: великое княжение и строилось, со времен Юрия Долгорукого, в непрерывной связи с борьбой за Новгород Великий. И книжники летописцы, сохранившие запись: «Сяде по браге своем великом князе Александре Ярославиче на великом княжении в Володимери брат его князь велики Ярослав Ярославич и бысть князь велики Володимерскый и Новогородцкий»[148], были правы в своем понимании дела. Александр Ярославич укрепил, казалось, на прочнейшем основании эту связь Великого Новгорода с владимирским великим княжением, добился постоянного признания своей власти над Новгородом, держал его через сыновей, оборонял новгородские и псковские волости силами «низовской» земли, сливая местную их политику в области внешних отношений с общими задачами великокняжеской власти. Его господство над Новгородом положило прочные основания традиции, что стол новгородского княжения «отчина» для князей «низовской» земли, но открыло, с другой стороны, возможность двоякого понимания этой традиции: отчичами стола новгородского могли выступать его сыновья, Александровичи Невского; права на это княжение мог предъявить, а по существу реальных своих интересов не мог не предъявлять каждый обладатель великокняжеского стола. Обладание княжой властью в Великом Новгороде стало самостоятельным фактором в борьбе за и против великокняжеской власти, открывая Господину Великому Новгороду широкие перспективы как влияния на эту борьбу, так и развития в ее условиях своего «народоправства» путем закрепления за новгородцами вынужденных уступок со стороны княжеской власти.
Само основное значение великокняжеской власти – общее руководство политическими судьбами Великороссии и, прежде всего, ее самообороной от внешних врагов – стало падать под давлением повой политической обстановки, когда татарское владычество почти парализовало проявление великорусской энергии в наступлении к югу и востоку, а самооборону Великороссии поставило, на этих пределах, в новые, крайне тягостные условия мелкой пограничной борьбы. Настает период некоторого разобщения задач этой великорусской политики, что ведет к расстройству общего участия великорусских сил в их разрешении и организующего руководства ими. Функции великокняжеской власти дробятся и переходят по частям в руки тех или иных местных князей, а разрешение каких-либо вопросов, в которых заинтересованы все представители княжеской власти, достижимо только общими их соглашениями, при коих носитель великокняжеской власти не всегда даже первую роль играет (тем более что сплошь и рядом оказывается неустранимым вмешательство ордынской власти), или же путем вооруженной борьбы, прямых усобиц.
Все эти моменты политического упадка владимирского великого княжения развернулись с большой силой в последние десятилетия XIII в.
При рассмотрении этих событий внимания требует, прежде всего, само положение княжеского рода по отношению к преемству на великокняжеском столе. Это уже не род потомков Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, отчичей всей Ростовско-Суздальской земли. Это – только Ярославичи, сыновья и внуки великого князя Ярослава Всеволодовича. Спор о старшинстве и власти идет только между ними, словно только им одним великое княжение отчина и дедина. Такое сужение круга возможных претендентов на старейший стол не новость в древнерусских междукняжеских отношениях; и ранее – на киевском юге стремление ограничить этот круг пределами одной семьи возникало каждый раз, как на старшем столе появлялся сильный и деятельный князь. Но в данном случае дело представляется более сложным: крупная и яркая сила Александра Ярославича грозит преломить в сознании следующих поколений представление о преемстве по Ярославе Всеволодовиче и выдвинуть новую тенденцию, новые притязания на исключительное преемство по Александре его потомков, помимо боковых линий Ярославова дома.
Впрочем, такие притязания Александровичей Невского не могли проявиться с достаточной силой и определенностью сразу после его кончины. Старший из сыновей Александра, опальный Василий, исчезает с исторической сцены после злополучной для него катастрофы 1257 г.; дальнейшей судьбы его не знаем[149]. Второй, Дмитрий, был еще отроком и не мог по смерти отца удержаться в Новгороде, где жил номинальным представителем великокняжеской власти: новгородцы по первым же вестям о кончине великого князя Александра выслали его сына из города[150].
Обстоятельства перехода великокняжеской власти к князю Ярославу Ярославичу сильно запутаны в изложении наших летописных сводов. Но внимание к немногим точным датам[151], какие можно установить, позволяет признать, что немедленно по смерти великого князя Александра «выгнаша новгородци князя Дмитрия Александровича из Новагорода, сдумавше с посадником с Михаилом, и спослаша по князя Ярослава Ярославича», а 27 января 1263 г. «посадиша его на столе»[152]. К этому моменту естественно приурочить и заключение первого из договоров Великого Новгорода с князем Ярославом Ярославичем[153]. Новгородцы использовали благоприятный момент для закрепления в форме письменного договора той «старины и пошлины», которая во многом терпела, по утверждению договорной грамоты, от «насилья на Новгороде», какое «деял» Александр Ярославич, от чего Ярослав должен впредь «отступиться»[154]. Новгородцы добиваются возможно прочных гарантий своей политической свободы, построенной на все расширяющемся «народоправстве» и все крепнущей связанности действий княжеской власти обычно-правовой «стариной и пошлиной» Великого Новгорода. С другой стороны, договорная грамота вскрывает (в своей заключительной части) значение тех торговых интересов, какие склоняли новгородцев искать не ослабления, а укрепления связи Великого Новгорода с великим княжением.
Момент, благоприятный для этой новгородской политики, был создан вокняжением в Новгороде князя Ярослава ранее, чем он стал великим князем; все его поведение показывает, что он нуждался в новгородской помощи и спешил утвердить за собой новгородское княжение в связи со стремлением к великокняжескому столу. Было ли причиной тому возможное соперничество старшего брата Андрея, которое Татищев построил как факт, или опасение притязаний Александровичей Невского, на что указывает связь призвания Ярослава с изгнанием из Новгорода князя Дмитрия Александровича, надо допустить, что новгородская помощь обеспечила успех Ярослава в Орде, как это не раз бывало и позднее с претендентами на великое княжение[155].
Двойственное отношение Великого Новгорода к великокняжеской власти весьма сильно отразилось на деятельности великого князя Ярослава Ярославича. Крепнет в эту пору обособление Новгорода и Пскова, как самостоятельных политических сил. У них своя политика по отношению к западным соседям, и великим князьям приходится все более считаться с нею, даже – волей-неволей – ей подчинять свои действия.
Бурные события 1263-го и следующих годов в литовско-русских областях выдвинули самостоятельное значение Пскова и усилили его особое значение в западных отношениях Руси. В 1265 г. явился в Псков беглецом литовский князь Довмонт «со всем родом своим», стал организатором псковских боевых сил, вождем их борьбы с Литвой, руководителем местной псковской политики. Водворение в Пскове литовского князя поразило великого князя Ярослава; он спешит «со многою силою Низовскою» в Новгород, «хотя ити на Псков, на князя Доманта», но новгородцы «возбраниша ему, глаголюще: оли, княже, тебе с нами уведався тоже поехати на Псков». Успешные боевые действия Довмонта увлекли новгородцев; помимо великого князя они рвутся к активным, наступательным действиям и, видимо, находят сочувствие в младших князьях, прежде всего в Дмитрии Александровиче[156], на которого и выпала роль продолжателя отцовских подвигов. После целого года смут новгородцы добились, помимо великого князя, организации большого похода русских князей на Раковор под руководством переяславского князя Дмитрия Александровича[157]. Битва под Раковором была удачна, но стоила больших потерь, а главное, не дала никаких результатов, кроме озлобления соседей. Немцы не замедлили ответить набегом на Псков, а с русской стороны боевая энергия угасла, князья разъехались, не учинив, подобно тому как в 1228 г.[158], мира и «никакого добра». Создалось положение, из которого не было выхода без обращения к великому князю. И после долгих раздоров и сношений с великим князем Ярославом новгородцы вынуждены передать свое дело в его руки. Ярослав добился смены нескольких должностных лиц, избрания тысяцким своего кандидата и тогда только призвал «низовские» полки и татарскую помощь, чем принудил «„немцев“ вернуть весь полон и отступиться всей Неровы»[159]. Восстановление руководящей роли великого князя во внешней политике Великого Новгорода соединено с попыткой Ярослава заново усилить свою власть и в делах внутреннего управления; он стал поступать в Новгороде как вотчинный владелец, не считаясь ни с новгородской «пошлиной», ни с торговыми отношениями Великого Новгорода[160]. Ярослав лично долго пробыл в Новгороде, на Городище, но в 1269/70 г. поднялся «мятеж» в Новгороде, «хотяще князя Ярослава изгнати из града»; его сторонников били и грабили, а ко князю послали, «исписав на грамоту всю обиду его», с требованием, чтобы он пошел прочь из Новгорода, «а мы себе добудем князя», и настояли на отъезде великого князя Ярослава с Городища, хотя, по летописным сообщениям, он заявил новгородскому вечу через сына Святослава и боярина Андрея Воротиславича готовность «лишиться» всех незаконных захватов и целовать крест «на всей воле новгородской». У новгородцев был готов кандидат на стол их княжения: князь Дмитрий Александрович, но он уклонился от соперничества с дядей, а когда Ярослав «нача полки копить на Великий Новгород», призывая и татар в помощь, князь Дмитрий повел своих переяславцев против Новгорода по зову великого князя. Однако за Новгород вступился второй Ярославич – Василий[161]; Василий поехал в Орду с новгородскими послами и «возврати рать татарскую», убедив хана, что «новгородци пред Ярославом правы»[162]. Великий князь Ярослав не смог смирить новгородцев силою, вынужден был искать мира на всей воле новгородской под поручительством всех русских князей: новгородцы подняли на защиту все пригороды и волости свои[163]. Потребовалась увещательная грамота митрополита Кирилла к новгородцам и его поручительство за великого князя, чтобы привести их к примирению с великим князем Ярославом[164].
Эти новгородские дела за время великого княжения Ярослава Ярославича заслуживали подробного обзора по их показательности для упадка великокняжеского авторитета. Опора, какую великий князь искал во власти ордынского хана, оказалась «палкой о двух концах»; хан – в положении верховного судьи русских отношений признал новгородцев правыми перед великим князем, но предстательству их послов и князя Василия Ярославича. Необходимость для «великого княжения Владимирского и Новгородского» обладания Великим Новгородом возвышала значение Новгорода в общерусских делах[165]. В ту пору широкое развитие новгородской торговли давало руководящим сферам господина Великого Новгорода значительные материальные средства; эти сферы приобретали особый вес в Орде и у князей, а с другой стороны, усалилось самостоятельное, даже решительное значение новгородских и псковских интересов в вопросах западной великорусской политики. Зависимость великого князя от ордынской власти и новгородской силы ослабляла его авторитет по отношению к другим князьям, которые могли искать и искали самостоятельных связей и с той и с другой ради собственной выгоды и честолюбивых стремлений.
Эти общие черты политического положения Великороссии в последние десятилетия XIII в. создавали весьма благоприятную почву для развития княжеского владельческого сепаратизма в ущерб объединению всей Великороссии под общей властью Владимирского великого князя. Строго говоря, у нас нет достаточных оснований, чтобы сказать про самого великого князя Ярослава Ярославича, что его главная опора не столько великое княжение, сколько его вотчинные тверские владения; в роли его «подручников» видим князя Юрия Андреевича Суздальского, Глеба Смоленского, вероятно, и других младших – ростовских, ярославского, в составе «низовской» его рати. Однако брат его Василий Ярославич и племянник Дмитрий Александрович ведут свою политику, подрывая великокняжеский авторитет и в Орде, и в Новгороде Великом, и в своей княжеской среде[166]. Князь Василий Ярославич остановил наступление Ярослава на Новгород – предстательством за новгородцев перед ханом и свидетельством в их пользу. Осторожное поведение князя Дмитрия Александровича объясняется, быть может, тем, что у великого князя Ярослава было от хана разрешение смирить Новгород. Но возможен, кроме того, и иной мотив; есть указания на то, что великий князь Ярослав стремился примирить с собой Александровичей и иметь их на своей стороне. Выше мы видели, что он в 1265 г. в «Новегороде остави князя Дмитрия Александровича», княжившего там, при отце и ради призвания Ярослава на новгородское княжение оттуда изгнанного; а затем послал ему в помощь свои полки для новгородского похода, затеянного против его воли. С другой стороны, младший Александрович, Андрей, княжил на Городце Поволжском и Нижнем Новгороде[167], что могло произойти только по соглашению с великим князем[168].
Вся деятельность Ярослава Ярославича – борьба за сохранение подлинной силы великокняжеской власти; не видно в этой деятельности «вотчинного владельца» Тверской земли, хотя Ярослав – тверской князь – сохраняет Тверь, как личное княжое владение, и по занятии великокняжеского стола, а после его кончины (в 1271 г.) тверской отчиной владеют его сыновья Святослав и Михаил. Единственная подлинно «тверская» черта в биографии великого князя Ярослава Ярославича – его погребение в тверском храме Святых Козьмы и Дамиана; Ярослав скончался на пути из Орды, и его тело повезли хоронить не во Владимир, а в Тверь[169]. Сообщив о кончине великого князя Ярослава, летописные своды пишут по старому шаблону: «Того же лета седе в Володимери на столе князь Василей Ярославич Костромские и бысть князь великий Володимерский и Новгородцкий»[170]. На деле произошло нечто иное[171]. Василий Ярославич, по-видимому, обеспечил себе ярлык на великое княжение тотчас после смерти брата[172] и поспешил занять великокняжеский стол и стольный Владимир, но тут узнал о сношениях князя Дмитрия Александровича с Великим Новгородом и отправил туда своих послов[173], а когда новгородцы «яшася за князя Дмитрия», сделал, по-видимому, попытку перехватить его по дороге к Новгороду[174], но не успел, и князь Дмитрий «седе на столе» в Новгороде. Тогда Василий захватил Торжок, посадил там своих наместников, вернулся во Владимир и подготовил новый поход на Новгород, одновременно из Владимира, откуда выступил сам великий князь с владимирским «великим баскаком» и «многими татарами царевыми», и из Твери, откуда пошел на новгородские волости Святослав Ярославич (тоже с «татарами царевыми»)[175]. Однако и на этот раз дело свелось к разорению новгородских волостей. Великий князь Василий вернулся во Владимир и распорядился захватом всех новгородских купцов с их товарами во Владимире, Твери и Костроме; началась обычная при разрыве с великими князьями дороговизна хлеба в Новгороде. Князь Дмитрий Александрович сделал попытку организовать отпор «всею областью новгородскою», но рать дошла только до Торжка, где засели наместники великого князя, и стала тут вечем, которое решило «отметатися» от князя Дмитрия, а звать на княжение великого князя. Князь Дмитрий ушел от них в свой Переяславль, а в Новгороде «посадили на столе» великого князя Василия[176].
Кратковременное великое княжение Василия Ярославича (ум. 1276 г.) – бледная страница в летописной традиции, ничем характерным не отмеченная, кроме новгородских дел[177].
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽