Захваченные территории СССР под контролем нацистов. Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945
Текст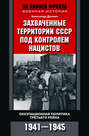


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 47,90 ₽
- Объем: 890 стр. 14 иллюстраций
- Жанр: военное дело / спецслужбы, документальная литература, зарубежная публицистика
Военная власть
Первоначально весь оккупированный Восток находился под управлением командования армии. Даже после создания гражданской администрации некоторые части Белоруссии и Украины, а также все оккупированные регионы РСФСР, включая Крым и Северный Кавказ, находились под юрисдикцией армии на протяжении всей войны, отчасти из-за смещения линии фронта, отчасти из-за продолжавшихся беспорядков в этих регионах и отчасти из-за нараставшего конфликта между армией и министерством Розенберга, в котором военные сопротивлялись всем усилиям по передаче дополнительных территорий гражданской администрации. Развернутая армией административная структура значительно отличалась от административной структуры в рейхскомиссариатах.
Территория, находившаяся под военным контролем, была разделена на несколько отдельных областей. Каждая из трех групп армий (Heeresgruppe) на Восточном фронте контролировала значительную территорию – нововведение в немецкой военной администрации, спровоцированное прежде всего обширностью занимаемого пространства и вытекавшими из этого проблемами логистики. Географически самые западные сегменты, тылы групп армий (Rückwärtige Heeresgebiete), oxватывали большую часть территории, контролируемой военными. На востоке к ним примыкали тыловые районы каждой армии – традиционные единицы немецкого военного правительства на оккупированной земле – под началом командиров тыловых районов (Rückwärtiges Armeegebiet, широко известных как Korück). Наконец, к востоку от армейских районов была зона боевых действий, поделенная на корпусные районы.

СХЕМА НЕМЕЦКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В зоне боевых действий не было специальных ведомств для создания военной администрации. За некоторыми исключениями (особенно в Донбассе, на Северном Кавказе и под Ленинградом в 1942 г.) на этих относительно небольших участках вблизи передовых линий не существовало регулярной административной системы коренных народов. Войска здесь осуществляли полный контроль, и командиры корпусов, как правило, стояли выше конкурировавших между собой чиновников СС и экономики.
Армия и тыл разделялись на юрисдикции военных комендантов (региональные комендатуры [Feldkommendanturen] и городские комендатуры [Ortskomendanturen]), как правило в соответствии с унаследованным от советской власти административным делением. Эти отделы военных комендатур составляли систему немецкой военной администрации на районном уровне. В армейских тылах региональные комендатуры под командованием армии; в тылу каждой группы армий они были сгруппированы по регионам в соответствии с назначенными в них немецкими охранными подразделениями.
Когда немецкие войска в начале 1943 г. начали отступление, сфера военного правительства уменьшилась. Отступление возымело двойной эффект на административную структуру. Уже в феврале 1943 г. восточные районы рейхскомиссаров, сохранив свою гражданскую администрацию, были возвращены под военную юрисдикцию. По мере того как продолжалось советское наступление, территория, подконтрольная группам армий «Центр» и «Юг», была вновь занята Красной армией; поэтому в октябре – ноябре 1943 г. их тыловые районы были упразднены (тыловые районы группы армий «Север» просуществовали до лета 1944 г.).
Судя по немецким довоенным планам, военное управление не было предназначено для выполнения каких-либо политических функций. Хотя эта мера, рассчитанная только на первое время, продержалась на протяжении всей немецкой оккупации, административная структура не была соответствующим образом скорректирована. На практике командир каждого района был волен действовать, как считал нужным в рамках некоторых общих указаний высших эшелонов командования. Цель военного управления состояла в том, чтобы обеспечить мир и безопасность в тылу за линией фронта. Это действительно соответствовало традиционным взглядам немецкой армии, рассматривавшей тыловые районы прежде всего через призму логистических проблем. Именно по этой причине генерал-квартирмейстер Вагнер был одним из первых, кто активно изучал проблемы военной администрации до вторжения, и его отдел оставался ответственным за сеть комендатур на оккупированной земле.
Этот факт объясняет два противоречивых явления. Во-первых, неэффективность и непоследовательность администрации; например, в течение первых 15 месяцев войны в тылу групп армий были секции военной администрации (отдел VII), которые получали приказы от генерал-квартирмейстера, в то время как сами армейские группы секций военной администрации не имели. Только на последней стадии кампании административная структура и цепь инстанций были несколько расширены и наделены законным статусом. С другой стороны, произвольное подчинение военной адинистрации канцелярии генерал-квартирмейстера способствовало развитию относительно более «реалистичной» политики, которая преобладала в некоторых районах под управлением военной администрации, поскольку генерал Вагнер и его сотрудники не были искренне привержены крайним мерам, которые насаждал фюрер и услужливо поддерживал Кейтель.
В конечном счете у каждого военного командира и коменданта было больше возможностей для выполнения своей административной задачи, чем у гражданских комиссаров. Именно по этой причине – и из-за отсутствия достаточно полных свидетельств – политика, проводимая различными подразделениями военной администрации, не поддается систематическому анализу. Они будут раскрыты в той мере, в какой они затрагивали проблемы немецкой Ostpolitik, рассмотренные в следующих главах.
Авторитарная анархия
Во многих отношениях описанные явления в двух рейхскомиссариатах свидетельствовали о сложностях и вариативности немецкой политики. Даже здесь Розенберг и его помощники не приблизились к статусу бесспорных хозяев, на который они рассчитывали. Если целью создания центрального территориального министерства на Востоке было упорядочивание его работы путем создания простой цепи инстанций, то результат оказался прямо противоположным.
Бок о бок с органами гражданского правительства в каждом рейхскомиссариате находился военный комендант (Wehrmachtsbefehlshaber), эквивалентный по званию командиру дивизии. Хотя военные коменданты по-прежнему обладали определенной властью в поддержании общественного порядка и особенно в организации военных перевозок, расквартирования и вопросах, касавшихся военнопленных, они утратили большую часть своих полномочий в области гражданского управления в 1942–1943 гг., когда СС взяли на себя абсолютную ответственность за проведение антипартизанской войны; они частично восстановили авторитет, когда тылы групп армий были распущены, а регионы под управлением «гражданской» администрации снова стали зоной боевых действий в 1943–1944 гг.
Более важным элементом конфликта с гражданскими властями были ведомства Гиммлера. Сначала СС и полиция в несколько неоднозначном состоянии постоянно расширяли свои функции, особенно после передачи под их юрисдикцию контроля над военными операциями за линией фронта. Под началом каждого рейхскомиссара был высший начальник СС и полиции (Höherer SS- und Polizeiführer), и к каждому рейхскомиссариату были прикреплены нижестоящие чиновники СС. Кроме того, люди Гиммлера контролировали местную полицию и специальные отряды СД (известные в областях под управлением гражданской администрации как зондеркоманды). Поскольку органы СС получали приказы непосредственно от своих контрольных органов в Берлине, неизбежно возникали конфликты между ними и органами гражданской администрации, которые тщетно требовали права контроля над ведомствами СС. Заместителю министра Мейеру было удобно упразднить этот конфликт, объявив о том, что OMi оставалось «единоличным законодателем» всей области. На деле зачастую разногласия в зоне боевых действий разрешались резче, чем в министерской духоте Берлина.
Ситуация была еще больше усложнена благодаря участию множества других ведомств, описывать конкретные полномочия которых здесь нет необходимости. Прежде всего среди них были экономические представители и различные монопольные компании, созданные для оккупированных районов. С 1942 г. программа найма рабочей силы действовала без учета директив гражданской администрации. Несмотря на то что большинство заинтересованных ведомств входили в Центральный штаб планирования OMi, само присутствие этих многочисленных подразделений вносило неразбериху и разнородность в и без того запутанный административный и политический лабиринт.
Некоторые из возникавших трудностей могли быть связаны со спонтанными решениями, вызванными неблагоприятным для Германии поворотом в ходе войны. Многие из них были связаны с внутренней борьбой за власть в рейхе. Однако некоторые возникали из-за отсутствия видения, гибкости и планирования. У немецких политиков было три основных альтернативы, когда они ввязались в авантюру по управлению европейской Россией – обширным пространством с более чем сотней миллионов жителей, насквозь пронизанным советскими и коммунистическими ведомствами, в котором практически каждая отрасль общественной жизни и экономики находилась в руках государства и для работы которого требовалась нескончаемая бюрократия. Этими альтернативами были: самоуправление под общим контролем Германии, участие каждого заинтересованного немецкого ведомства под руководством небольшого координирующего и политикообразующего штата или создание территориального министерства, стремящегося управлять всеми уровнями деятельности на оккупированной территории.
Проще всего было бы позволить населению разбираться со своими собственными проблемами по своему усмотрению и лишь помогать организовывать самоуправление, роль оккупирующей державы в котором была бы в первую очередь помогать, проверять и контролировать, а также обеспечивать безопасность в своих собственных интересах; а также подготовиться к возможному признанию территории автономным государством (или несколькими государствами). Но, учитывая мировоззрение и устремления населения, такая перспектива казалась политическому руководству рейха неприемлемой. Получившаяся в итоге развернутая административная структура стала логическим следствием такого подхода.
Хоть и было решено, что рейх должен поддерживать тщательный контроль на Востоке, некоторые представители Берлина выступали против идеи ОMi как таковой. Полагая, что это министерство будет лишь поощрять дублирование и трения, не внося никакого вклада в компетентность или эффективность, они предложили созвать небольшой высококвалифицированный штат экспертов, который мог бы стать политическим мозговым центром; фюрер назначил бы ряд губернаторов, непосредственно ответственных за него, – что-то наподобие немецких гаулейтеров; и каждое из немецких министерств «просто» распространило бы сферу своей деятельности на только что завоеванные земли.
Розенберг с самого начала выступал против этой схемы, и Гитлер встал на его сторону. Восток должен был считаться отдельной категорией; разгон исполнительной власти считался теоретически нежизнеспособным решением, даже если на практике оно с лихвой демонстрировало свою эффективность. Таким образом, Берлин пошел по пути создания территориального министерства, которое в теории должно было нести всю ответственность за новый Восток. Не сказать, что это решение было с легкостью воспринято конкурентами в правительстве. Весной 1942 г. у Розенберга были веские причины жаловаться, что одной из трудностей в его деятельности было то, что «верховные власти рейха естественно [sic!] не желали без протеста признавать такое новое министерство… Мы боролись с этой проблемой на протяжении нескольких месяцев… Мы отказывались становиться их мальчиками на побегушках…».
Учитывая масштабы районов, подлежавших управлению, задачи немецких чиновников на Востоке были неизмеримо грандиозней, чем задачи их коллег в рейхе. Концепция России как «немецкой Индии» не подразумевала наличие развернутого самоуправления. Даже на низших уровнях комендант города, немецкий управляющий молочного хозяйства или сельскохозяйственный чиновник были наделены гораздо большими прерогативами и, что более важно на практике, имели много возможностей потакать своим собственным прихотям и придерживаться настолько произвольной политики, насколько позволяла их совесть и сноровка. В сложившихся условиях качество и компетентность персонала, отобранного для работы на Востоке, приобрели первостепенное значение.
Золотые фазаны
По мере того как Третий рейх захватывал страну за страной, все больше должностных лиц призывалось на должности в правительственных и оккупационных структурах. СССР оказался последним, и ему пришлось довольствоваться остатками немецких «экспертов». Когда министерства призвали предоставить свои квоты государственных служащих для нового «восточного корпуса фюрера», они увидели в этом призыве благоприятную возможность избавиться от личных врагов, неприятных сотрудников и некомпетентных бездельников. Кроме того, Розенбергу не удалось завербовать одних из лучших квалифицированных людей, потому что они служили в армии или в министерстве иностранных дел и их не отпустили на службу в его ведомстве; другие «эксперты по России» старательно избегали призыва к работе с OMi.
Результатом стало «пестрое и беспорядочное скопление гаулейтеров, крайслейтеров, чиновников партии и трудового фронта и множества лидеров СА всех рангов, занявших высокие посты в гражданской администрации, прослушав несколько вводных лекций, проведенных сотрудниками Розенберга в нацистской школе подготовки в Кроссинзе».
Каким бы важным фактором ни было отсутствие у них узких знаний и специальной подготовки, именно такие люди были задействованы на Востоке. Как причитал один немецкий профессор во время войны, возник огромный штат новых господ, которые были «бюргерами без кругозора или изысканности: филистерами, норовящими поиграть в господ». Журналист, путешествовавший по Украине с Розенбергом в 1943 г., был вынужден напечатать, что «не все откликнувшиеся на зов долга на Востоке были мотивированы чистым идеализмом» и что многие просто стремились к «беззаботной жизни без назойливого контроля и с обилием провианта». К многочисленным образовавшимся во время войны терминам с корнем Ost саркастичные критики инициативы Розенберга добавили еще один: Ostniete – «восточная пустышка». За надменное поведение и желто-коричневую униформу чиновники OMi были уничижительно прозваны Gold-fasanen – «золотыми фазанами».
Ввиду нехватки рабочей силы (и не забывая об Индии на перспективу) Гитлер хотел, чтобы немецких чиновников на Востоке было «как можно меньше». Тем не менее своей экономией людских ресурсов он лишь создал еще более благоприятные условия дла беспрепятственного злоупотребления властью. Закрыв глаза на эту проблему, он с нетерпением ожидал результатов правления на Востоке: «Тогда возникнет новый тип людей, настоящие хозяева, которым, разумеется, на Западе не найдется применения, – наместники».
Рейхскомиссары, конечно, оправдали эти ожидания. Кох был настоящим самодержцем на Украине. Лозе, владыку Белоруссии и стран Прибалтики, интересовали только «замки, отели и административные дворцы». Однажды, когда Альфред Мейер, будучи не совсем трезвым, упрекнул Лозе в непоследовательности, тот (по словам очевидца) выкрикнул: «Я работаю не для себя! Я работаю, чтобы мой только что родившийся сын когда-нибудь смог надеть на голову унаследованную герцогскую корону».
В сложившихся обстоятельствах гражданские должностные лица не могли не стать объектом ненависти как для своих подчиненных, так и для конкурентов. Несмотря на мотивацию и идеологию нацистской элиты, оккупационный эксперимент был крайне затруднен чрезмерно запутанным, неэффективным управлением и низким уровнем бюрократического аппарата, который вел дела Востока в течение нескольких лет.
Часть вторая
Народы и политика
Глава 6
Германия и Украина: эмигранты и националисты
Украина в немецких планах
Из всех восточных регионов, завоеванных Третьим рейхом, Украина была, безусловно, самым важным. Это была самая большая советская республика, которую немцы оккупировали в полном объеме, и удерживали они ее дольше, чем те части Великой России, которые им удалось захватить. Украина была непревзойденным поставщиком продовольствия и рабочей силы.
При составлении своей политики Берлин мог опираться на целое поколение немецкого политического мышления. Если до Первой мировой войны Германия, как и большинство других стран, рассматривала Украину как «маленькую Россию» – скорее как любопытное этнографическое явление, нежели как автономную политическую силу, – то крах царской империи вынудил центральные державы уделить Украине особое внимание. Брест-Литовск (заключение мирного договора 3 марта 1918 г.) и формирование украинского правительства весной 1918 г. под защитой немецких орудий породили новую ориентацию, главными героями которой были как военные лидеры, такие как генерал Людендорф, так и крупные ученые, такие как Пауль Рорбах (1869–1956). Некоторые рассматривали Украину как самого восточного члена новой контролируемой Германией Mitteleuropa[16]; другие – как источник зерна; третьи – как ниспосланный свыше ключ к традиционному союзу сил континента; германо-украинский альянс был естественным оплотом как против России, так и против Польши, которая восстала из руин войны с бывшей австрийской западной частью Украины, Галицией, в составе своей территории. Когда в конце Гражданской войны Великая Украина снова вошла в состав Советского Союза, Галиция стала центром политической жизни Украины – как очагом ненависти к Польше, так и мини-версией «Пьемонта», которую украинские националисты стремились превратить в действующую базу операций по «освобождению» Советской Украины. Некоторые западные украинцы ставили на немецкую поддержку в своих планах по воссоединению и обретению независимости, а они, в свою очередь, должны были оказать Берлину содействие в борьбе против Варшавы и Москвы.
В этих двусторонних отношениях прослеживалась такая удобная взаимность интересов, что некоторые политики в Берлине вздохнули с облегчением: если бы не было Украины, Германии пришлось бы создать ее самой.
Неудивительно, что Розенберг принял эту концепцию, которая так хорошо соответствовала его антимосковским и антипольским взглядам. Еще в 1927 г. он писал о «естественной враждебности между украинцами и поляками», которая сыграет Германии на руку.
«Как только мы поняли, – писал он, – что ликвидация Польского государства является актуальной целью Германии, альянс между Киевом и Берлином и формирование общей границы стали вопросом первой необходимости для народа и государства для будущей немецкой политики».
Предпосылки для «ликвидации Польского государства» в 1939 г., как и для нападения на Советский Союз в 1941 г., оставались неизменными. Цели «украинской политики» Германии были красноречиво выражены в критическом резюме во время войны: «Наша политика, – писал доктор Отто Бройтигам, – заключалась в том, чтобы проставить Украину в противовес могущественной России, Польше и Балканским странам, а также использовать ее в качестве моста к Кавказу».
Таким образом, у Розенберга в планах немецкой оккупации еще весной 1941 г. Украине было предначертано стать самым сильным звеном в цепочке зависимых регионов вокруг Москвы, а также плодородной и прибыльной житницей рейха. Ее отделение от России и тесная связь с Германией носили аксиоматический характер.
В своем первом меморандуме, пересматривая свой исторический тезис, Розенберг утверждал, что Киев был центром варяжского государства – отсюда и ярко выраженные скандинавские, совершенные черты украинского народа. Национальная самобытность украинцев, добавил он, бросив тем самым камень в огород русской историографии, сформировала «достаточно цельную традицию» вплоть до наших дней. Нацистская программа заключалась в том, чтобы поддержать это чувство национальной самобытности «вплоть до возможного создания отдельного государства с той целью… чтобы всегда держать Москву под контролем и защитить великое немецкое Lebensraum от Востока». Затем, как и в последующих записях, он призывал к расширению Украины на восток за счет российской территории. Несколько дней спустя контуры политической цели стали яснее. Учитывая его важность для Германии, «независимое украинское государство со всеми вытекающими последствиями [должно было слиться] в тесном и нерасторжимом союзе с германским рейхом».
Самое полное изложение взглядов Розенберга появилось в начале мая, когда он составил инструкции для будущего немецкого правителя Украины. Отступив немного от своей цели непосредственной государственности (вероятно, потому, что ощущал назревание оппозиции против своей схемы), Розенберг на этот раз предусмотрел две фазы. Во время войны Украина должна была обеспечивать рейх продовольствием и сырьем; после этого «свободное украинское государство в тесном союзе с великим германским рейхом» укрепило бы немецкое влияние на Востоке. Явно находясь под влиянием своих и лейббрандтовских украинских советников, Розенберг продолжал: «Для достижения этих целей необходимо как можно скорее начать разбираться с одной проблемой, полной психологического потенциала: необходимо направить деятельность украинских писателей, ученых и политиков на возрождение украинского исторического сознания, чтобы вернуть то, что было разрушено в украинском Volkstum[17] под большевистско-еврейским давлением в эти годы».
Новый «великий университет» в Киеве, технические академии, обширные немецкие лекционные туры и публикация украинской литературы большими тиражами были неотъемлемой частью этой программы, равно как и окончательная ликвидация здесь русского языка и интенсивная пропаганда немецких культуры и языка. С точки зрения более широкой политики Розенберг предусмотрел тесное сотрудничество между Украиной и контролируемым Германией Кавказом – еще одним оплотом антимосковского пояса и второй ключевой для немецкого процветания провинцией, а также расширение Украины к Волге и Крыму.

ПЛАН РОЗЕНБЕРГА: СТЕНА ВОКРУГ «МОСКОВИИ»
«Задачи немецкого рейхскомиссара на Украине, – резюмировал Розенберг, – возможно, будут иметь глобальноисторическое значение. Если нам удастся объединить все политические, психологические и культурные средства для создания свободного украинского государства от Львова до Саратова, тогда будет разрушен вековой кошмар, которому Российская империя подвергла немецкий народ; тогда Германии не будет угрожать заморская блокада и будет обеспечен беспрерывный поток поставок продовольствия и сырья».
За два дня до нападения Розенберг, повторив свой прошлый план почти слово в слово, сделал одно важное дополнение. Насколько сильным, задавались вопросом скептики, было украинское национальное сознание? Даже сам Розенберг не хотел преувеличивать его масштабы. «Я верю, – заявил он, – что мы можем смело предположить, что это сознание существует в широких массах людей только в скрытой и притупленной форме [dumpf], но если оно присутствует даже в меньшей степени, чем нам кажется… то нам тем более необходимо приложить все усилия, чтобы оживить украинское национальное самосознание». Такой национализм, продолжил Розенберг, был бы лучшим слугой немецких интересов на Востоке. В прошлом Украина подвергалась угрозам со стороны Москвы, теперь же «она навсегда останется зависимой от защиты другой великой державы, и таковой может быть, конечно, только Германия».
Тезис представлял собой симбиоз западноукраинского национализма, стремившегося к созданию государства от Карпат до Волги, и немецких интересов (с точки зрения Розенберга), в которые входило создание зависимой от немецкой поддержки Украины. С точки зрения силовой политики концепция украинского сателлита лучше всего подходила к амбициям рейха, нежели к любой другой власти. OMi не основывало свои расчеты на предположении о подавляющем распространенном стремлении к независимой Украине; оно не только априори отрицало это стремление, но и признавало необходимость его систематической и искусной стимуляции.
Потакание Розенберга Украине основывалось на предпосылке, что война будет короткой. Действительно, с точки зрения военных действий не важно, были ли сами украинцы в подавляющем большинстве националистически настроены или будут ли русские возмущены «политикой разделения» Розенберга. На реальное положение дел можно было бы закрыть глаза ради политических целей в том, и только в том случае, если Германия во что бы то ни стало победила бы в войне.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽