Выбирая свою историю. Развилки на пути России: от Рюриковичей до олигархов
Текст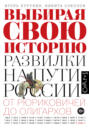


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 64,90 ₽
- Объем: 930 стр.
- Жанр: история России, общая история, политика и власть, популярно об истории
Столь же превратный вид имеет в нашей популярной литературе и знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере. Если верить официальной советской версии, «этой крупнейшей битвой раннего Средневековья впервые в мировой истории был положен предел немецкому грабительскому продвижению на восток». Насчет «грабительства», как и в большинстве подобных предприятий, упреки могут быть обоюдными. Из массовой литературы как-то незаметно исчезает предыстория знаменитого побоища. А между тем в 1242 г. Александр Ярославич начал кампанию с того, что разорил немецкий острожек, который почему-то имеет вполне русское название Копорье, «освободил» вовсе о том не помышлявший Псков, пленив немецкий «гарнизон», состоявший из двух фогтов. Далее князь повел свое войско в землю чуди, позволив ему воевать «в зажития», то есть разорять хозяйство, и после первой неудачной стычки с немцами повернул восвояси. Неудивительно, что «вдогонь» ему пустилась не только наличная орденская сила (рыцарей в обоих ливонских орденах в это время всего было около 100, причем большая часть во главе с магистром воевала в этот момент с балтским племенем куршей), но и великое множество эстов (чуди русских летописей). Относительно масштабов столкновения и, соответственно, потерь цифры расходятся: по сообщению новгородской летописи, было убито 400 и пленено 50 немцев, а чуди «паде бещисла». Согласно ливонской «Рифмованной хронике», потери ордена составили 20 убитых и шесть пленных. Даже если летопись говорит обо всех немцах (помимо рыцарей в бою участвовали их военные слуги – кнехты, воины дерптского епископа, отряды из немецких колонистов-горожан), а «Хроника» только о полноправных рыцарях, то и тогда «поворотное» значение Ледового побоища оказывается сомнительным на фоне других подобных столкновений. Например, в сражении под Шауляем в 1236 г., где орденские войска были наголову разбиты литовцами, погиб магистр Волквин и 48 полноправных рыцарей. Скорее всего, в результате именно этого поражения крестоносцам пришлось надолго умерить завоевательный пыл. Беда только, что вспоминать об этом сражении в отечественных учебниках неудобно: все-таки под Шауляем на стороне ордена сражался большой отряд союзных псковичей – «муж двести», из которых домой вернулась едва десятая часть.
Во всяком случае, ни Невское, ни Чудское сражения не были решительными и переломными в борьбе за сферы влияния в Прибалтике. Перелом в этой борьбе наметился после того, как новгородцы в 1262 г. взяли Дерпт, а в 1268 г. совершили большой поход против датских владений в землях эстов, завершившийся кровопролитным сражением под Раковором. Шведы, несмотря на будто бы разгромное поражение на Неве, к середине xiii в. покорили всю Финляндию и в конце столетия приступили к завоеванию Карелии. В 1293 г. они построили крепость Выборг на берегу Финского залива, а в 1300-м – Ландскруну на Неве. Относительно устойчивая граница между владениями Новгорода и Швеции была установлена только Ореховским миром в 1323 г.
Знаменательно, что сам Александр Невский в последние десять лет жизни участия в борьбе за Прибалтику не принимал, хотя, казалось бы, должен был использовать на этом направлении всю мощь своего ордынского покровителя. Единственное исключение – зимний поход 1256 г. в Южную Финляндию, который описывается в летописи чрезвычайно туманно, без всякого указания мотивов и целей, сообщается только, что русским дружинам удалось убить и захватить в плен много финнов «и придоша… вси здорови» (эта стандартная летописная формула обычно употреблялась для описания неудачного военного предприятия). Так что едва ли обеспечение тыла для борьбы с западной экспансией в Прибалтике было главным мотивом Александра Ярославича при установлении вассальных отношений с Ордой.
Благоверный прагматик
По всей видимости, прав наш современник, историк Антон Горский, утверждающий, что в действиях Александра Ярославича не следует искать «какой-то осознанный судьбоносный выбор. Он был человеком своей эпохи, действовал в соответствии с мировосприятием того времени и личным опытом. Александр был, выражаясь по-современному, «прагматиком»: он выбирал тот путь, который казался ему выгодней для укрепления его земли и для него лично. Когда это был решительный бой, он давал бой; когда наиболее полезным казалось соглашение с одним из врагов Руси, он шел на соглашение». С этим можно было бы и согласиться, осталось уточнить, что именно князь считал «полезным».
Основная деятельность князя в последнее десятилетие его жизни позволяет ответить на этот вопрос вполне однозначно. Союз с монголами значительно облегчал великому князю укрощение строптивых вечевых городов, с которыми владимирские князья боролись со времен Юрия Долгорукого. Союз с Западом неизбежно усилил бы позиции городов, поскольку города Западной Европы уже давно освободились от власти феодальных сеньоров. Русь неизбежно втягивалась в систему европейского права, способствовавшего укреплению модели власти, связанной с договорными отношениями автономных сторон.
А вот система правления, принятая в монгольских улусах, устраивала Александра Ярославича вполне. Живыми штрихами ее рисует Плано Карпини: «Император же этих татар имеет изумительную власть над всеми. Никто не смеет пребывать в какой-нибудь стране, если где император не укажет ему. Сам же он указывает, где пребывать вождям, вожди же указывают места тысячникам, тысячники – сотникам, сотники же – десятникам. Сверх того, во всем том, что он предписывает во всякое время, во всяком месте, по отношению ли к войне, или к смерти, или к жизни, они повинуются без всякого противоречия. ‹…› Ту же власть имеют во всем вожди над своими людьми… ибо среди них нет никого свободного». Получая из рук хана ярлыки на княжение, русские князья приняли и постепенно утвердили на Руси эту модель властных отношений. Под властью Орды уже не могли далее сохраняться старинные дружинные отношения. Князья Северо-Восточной Руси, сделавшись «служебниками» монгольских ханов, обязанные беспрекословно повиноваться их воле, уже не могли примириться с независимостью старшей дружины. Система подданства со временем должна была привести к установлению княжеского деспотизма в создаваемой потомками Невского Московии.
Есть важная крупица горькой правды в словах историка Михаила Сокольского: «Позор русского исторического сознания, русской исторической памяти в том, что Александр Невский стал непререкаемым понятием национальной гордости, стал фетишем, стал знаменем не секты или партии, а того самого народа, чью историческую судьбу он жестоко исковеркал».
Помимо исторического пути, на который столкнул Северо-Восточную Русь Александр Ярославич, существовал и другой путь, по которому пошли русские земли, князья которых не пожелали служить ордынским ханам. Из этих земель со временем сформировалось другое государство – Великое княжество Литовское. В течение нескольких столетий оно успешно вело тяжелую борьбу на два фронта, против ордена и против Орды, которую наши официальные историографы объявили «безнадежной» и «бессмысленной». И победило. К концу xiv столетия великий литовский князь Витовт назначал своей волей ордынских ханов, в 1381 г. решал, посадить ли ему «во Орде на царствие царя его Тохтамыша», а в 1410 г., по существу, покончил с Тевтонским орденом. Наследниками некогда единой Киевской Руси стали в xiii – xv вв. три государства с различной политической системой, три Руси – Литовская, Московская и Новгородская. Их борьба за гегемонию в объединении всех русских земель и победа Москвы в этой борьбе определили дальнейшую судьбу нашей страны. Но это уже другая история.
Подробнее на эту тему
Горский А. А. Александр Невский // Мир истории. 2001. № 4 (http://www.tellur.ru/~historia/archive/04-01/nevsky.htm).
Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (xii – xiv вв.). М.: Аспект Пресс, 2001.
Джиованни дель Плано Карпини. История монголов. М., 1957 (http://www.darktimes.ru/Karpini.html).
Макаров Н. Русь. Век тринадцатый. Характер культурных изменений // Родина. 2003. № 11.
Сокольский М. М. Неверная память (Герои и антигерои России). М., 1990.
Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М.: Прогресс, 1989.
Флоря Б. Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (xiii в.) СПб.: Алетейя, 2004 (журнальный вариант доступен по адресу: http://www.krotov.org/library/f/florya/flor04.html).
Чернецов А. В. К проблеме оценки исторического значения монголо-татарского нашествия как хронологического рубежа // Русь в xiii веке: Древности темного времени. М., 2003.
Юрганов А. Л. У истоков деспотизма // История отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России ix – нач. хх в. М., 1991. Кн. 1. С. 34–75 (http://anevskiy.narod.ru/library/24.html).
1380. Несостоявшийся союз
3 мая 1626 г. страшный московский пожар уничтожил большую часть государственных архивов России xvi столетия. Составлявшие опись дел Посольского приказа – Министерства иностранных дел того времени – чиновники-дьяки обнаружили уцелевший тогда, но так и не дошедший до нас исторический документ. Речь в нем шла о том, как могла пойти наша история в конце xiv в.
«Тетратка ветха, а в ней писан список з грамоты докончальные Ягайлова с великим князем Дмитреем Ивановичем… о женитве великого князя Ягайла Ольгердовича, женитися ему у великого князя Дмитрея Ивановича на дочери, а великому князю Дмитрею Ивановичю дочь свою за него дати, а ему, великому князю Ягайлу, быти в их воле и креститися в православную веру и крестьянство свое объявити во все люди» – так обозначен в описи проект русско-литовского договора, составленный в 1381 или начале 1382 г.
(Опись архива Посольского приказа 1626 г. М., 1977. Ч. 1. С. 34)
После победы на Куликовом поле Дмитрий Донской склонил молодого литовского князя Ягайло к заключению династического союза. В этом союзе Ягайло должен был играть роль младшего партнера. Из рук тестя он получал не только жену, но и православную веру, которую должны были принять все его подданные – ведь Литва оставалась последним языческим государством в Европе. История этого государства началась на полтораста лет раньше…
В середине xiii в. литовский князь Миндовг сумел объединить литовские племенные союзы под своей властью. В борьбе с немецким Тевтонским орденом Миндовг то принимал от папы римского королевский титул, то искал союза против крестоносцев с Александром Невским, то становился католиком, то возвращался в язычество. Не знавшая татарского господства Литва быстро расширяла свою небольшую территорию за счет ослабевших западнорусских княжеств и уже в xiii в. стала балто-славянским государством, почти на три четверти состоявшим из бывших древнерусских княжеств. К концу следующего века западнорусские земли составляли уже девять десятых всей территории государства и подавляющее большинство населения было православным.
В xiv в. князья Гедимин (1316–1341) и Ольгерд (1345–1377) создали державу, в состав которой вошли Полоцк, Витебск, Минск, Гродно, Брест, Туров, Волынь, Брянск, Чернигов. Казалось, лидерство на Руси перешло к Гедиминовичам; в 1358 г. послы Ольгерда заявили тевтонским рыцарям, что «вся Русь должна принадлежать Литве». Ольгерд первым выступил и против Орды: в 1362 г. он разгромил татар при Синих Водах, ликвидировал зависимость своих земель от Золотой Орды и закрепил за Литвой древний Киев. Но в это же время «собирать» земли стали и московские князья. Так к середине xiv в. сложились два центра, претендовавшие на объединение всех древнерусских земель: Москва и Вильно. Конфликт между ними был неизбежен, тем более что в союзе с Литвой выступали старинные соперники Москвы – тверские князья; перейти «под руку» Литовского государства порой стремились и новгородские бояре. В 1368–1372 гг. Ольгерд в союзе с Тверью совершил три похода на Москву, но силы соперников были примерно равны, и договор 1372 г. разделил «сферы влияния».
Вот тогда-то, в начале 80-х гг. xiv в., и наметилось объединение двух «половинок» некогда единой Руси: Северо-Восточной «Московской» и Юго-Западной, находившейся в составе Великого княжества Литовского. К чему привел бы такой вариант объединения? Скорее всего, он подтолкнул бы консолидацию Руси и на полстолетия раньше привел к освобождению от ордынской зависимости. Но, возможно, и к усилению сословного представительства, сохранению региональных особенностей, получению выхода к Балтике задолго до Петра i, более активному включению в повседневный обиход и культуру западноевропейских элементов…
Могло быть, но не стало. Точнее, стало, но совсем иначе. Дмитрий Донской не смог противостоять хану Тохтамышу: Москва была в 1382 г. разорена и вновь стала платить дань Орде. Союз с несостоявшимся тестем перестал быть привлекательным для Ягайло; уния же с Польшей давала не только королевскую корону, но и реальную помощь в борьбе с сильным противником – Тевтонским орденом.
Ягайло женился – но не на московской княжне, а на польской королеве Ядвиге, и принял крещение – но не из Москвы, а из Рима, стал королем Владиславом и основателем новой династии на польско-литовском престоле. Вместо литовско-московского союза состоялась Кревская уния 1385 г. между Литвой и Польским королевством, на столетия определившая развитие соседа и соперника московских государей. С этого времени история Литвы тесно связана с историей Польши: в xiv – xvi вв. у этих государств был один король из династии потомков Ягайло – Ягеллонов.
При великом князе Витовте (1392–1430) княжество вступило в период своего наивысшего расцвета. В союзе с двоюродным братом Владиславом Ягайло Витовт разгромил Тевтонский орден при Грюнвальде (1410), присоединил Смоленскую землю (1404) и княжества в верховьях Оки. Витовт сажал своих ставленников на ордынский престол. Огромную дань-откуп платили ему Псков и Новгород, а московский князь Василий Дмитриевич женился на его дочери и называл Витовта «отцом», что по тогдашнему феодальному этикету означало признание вассальной зависимости. Тогда земли Великого княжества простирались от Балтийского моря до Черного, а восточная граница проходила под Вязьмой и Калугой.
Распад СССР в числе прочих проблем породил «взрыв» национальных трактовок, казалось бы, уже давно решенных вопросов – будь то оценка деяний гетмана Мазепы или спор о том, являлось ли средневековое Великое княжество Литовское литовским или белорусским и насколько именно. Главная же «потеря» состоит в том, что со страниц отечественных учебников истории вместе с рассказами о прошлом народов Кавказа или Средней Азии (что тоже не очень хорошо) исчезли сюжеты, касающиеся самого ближнего, славянского зарубежья, а история России оказалась сведенной к развитию Московского царства как единственного «законного наследника» Древней Руси.
Определять раннесредневековое Великое княжество Литовское как «русское» или «литовское» значило бы применять современные понятия об этничности по отношению к другой эпохе, в которой термин «русский» чаще всего означал «православный». В то же время источники xv – xvi вв. свидетельствуют о том, что восточные славяне в границах Польши и Литвы считали себя единой этнической общностью – «русским народом». Трудно установить, когда эта этническая общность стала разделяться. Появившийся в московских источниках с конца xvi в. термин «белорусцы» как будто говорит о том, что в Москве уже тогда стали воспринимать братьев-славян на территории Польско-Литовского государства как особый народ. Но это название относилось ко всему восточнославянскому населению соседней державы: «белорусцем» мог быть также житель Киевщины или Волыни. Еще труднее определить, с какого времени восточные славяне к северу от Припяти стали смотреть на восточных славян к югу от Припяти как на представителей иного этноса, то есть можно говорить о существовании особого украинского и белорусского народов.
Однако на западных землях Руси объединение проходило иным, по сравнению с Московским государством, путем.
Федерация земель
В Северо-Восточной Руси процесс «собирания земель» шел дольше и труднее, но зато и степень зависимости бывших самостоятельных княжеств от тяжелой руки московских государей была выше. В московской державе медленно, но верно складывалась система военно-служилой государственности на элементарной экономической основе, где все более или менее знатные подданные должны были нести пожизненную и безусловную службу своим государям, а попытки отстоять свои права становились «изменой».
В Литве взаимоотношения власти и подданных были иными, намного более либеральными. В противовес жесткой московской централизации и унификации Литва была рыхлой федерацией княжеств, земель и владений магнатов под властью отдельных князей – потомков Гедимина. Включая в свой состав более развитые, чем коренная Литва, земли, Гедиминовичи сохраняли их автономию: «Старины не рушаем, новины не вводим». Некоторые князья Рюриковичи (Друцкие, Воротынские, Одоевские) долгое время сохраняли свои владения.
Другие земли, входя в состав Литовского государства, получали от великого князя грамоты – привилеи: их жители могли требовать смены наместника; великий князь обязывался не «вступать» в права православной церкви, не переселять местных бояр, не раздавать земельных владений выходцам из других мест, не отменять принятых местными судами решений. Эти права не оставались на бумаге. В 1526 г. бояре и мещане Витебска пожаловались на «тяжкости» и «кривды» от воеводы Ивана Богдановича Сапеги, и король Сигизмунд вынужден был дать им другого воеводу. В русских землях Великого княжества – Полоцкой, Витебской, Смоленской, Киевской, Волынской – действовали местные сеймы, где решались вопросы о строительстве укреплений, введении единых условий переходов крестьян, раскладке субсидий великому князю. До xvi в. на славянских землях Великого княжества действовали правовые нормы, восходившие к Русской правде.
Многоэтничный характер державы отражало ее официальное название – Великое княжество Литовское и Русское. Его официальным языком был русский (можно назвать его старобелорусским или староукраинским – большой разницы между ними до начала xvii в. не было) – на нем составлялись законы и акты великокняжеской канцелярии. Образцом социального устройства и государственных порядков для Литвы стала союзная Польша. Нуждавшиеся в поддержке польской знати Ягайло и его потомки вынуждены были даровать ей все новые привилегии, а затем распространять их и на своих литовских подданных. К тому же Ягеллоны вели активную внешнюю политику: пытались – порой успешно – овладеть чешской и венгерской коронами, соперничали с императором Священной Римской империи. Но за это тоже надо было платить отправлявшемуся в походы рыцарству.
В языческой Литве в условиях постоянной войны с Тевтонским орденом долго сохранялось свободное крестьянство, обязанное нести военную службу. Еще в конце xiv в. официальные грамоты называли всех свободных воинов боярами. В следующем столетии раздачи земель и крестьян привели к образованию слоя землевладельцев – бояр-шляхты (от немецкого Geschlecht – род, происхождение), обязанных великому князю военной службой.
Великого князя литовского окружала знать: князья Рюриковичи и Гедиминовичи, паны или крупные землевладельцы литовского и русского происхождения (Радзивиллы, Сапеги, Воловичи), выводившие на войну сотни слуг и занимавшие виднейшие посты при дворе и в управлении. Литовский статут – свод законов, впервые утвержденный в 1529 г. и затем дополнявшийся в 1566 и 1588 гг., – закреплял все права шляхты, полученные ею за 150 лет: пожалованные шляхтичам земли объявлялись их частной собственностью, они могли свободно переходить на службу к панам и уезжать за границу и не подвергались аресту без решения суда; местные земские суды избирались самой шляхтой на собраниях-сеймиках, где также решался вопрос о платеже государственных налогов, от которых шляхетские владения были освобождены.
Запрещение православным князьям и боярам занимать высшие государственные должности вызвало сопротивление – после смерти Витовта в Литве началась настоящая гражданская война, в которой одного из претендентов, князя Свидригайло, поддержали восточные земли и города Великого княжества. Но привилеи 1432–1434 гг. уравняли православных в правах с католиками и провозгласили неприкосновенность вотчин и их владельцев от репрессий без суда. С этого времени развертывается оформление единого правящего сословия – политического народа.
Привилей 1447 г. освобождал всех зависимых крестьян от натуральных и денежных податей в пользу государства и предоставлял землевладельцам право суда над своими крестьянами. Тем самым государь терял право вмешиваться во взаимоотношения вотчинников с их подданными, тогда как в Московской Руси государство ограничивало судебные права феодалов.
Крупных городов в Литве было немного: Вильно, Троки, Ковно, Берестье, Новгородок, Минск, Полоцк, Витебск, Смоленск, Киев, Луцк, Владимир (Волынский) и Кременец; для их развития князья, как и в Польше, приглашали иноземцев – немцев и евреев, получавших особые привилегии. В 1495 г. великий князь Александр приказал «жидову з земли вон выбити», изгнал все еврейские общины и конфисковал их имущество. Но разразившийся финансовый кризис заставил в 1503 г. великого князя вернуть евреев в свое государство; им были возвращены дома, лавки, огороды, поля и луга – все, чем они владели до изгнания, а также право взыскивать долги со всех должников. Еврейские купцы и банкиры постоянно предоставляли казне значительные средства; один из таких дельцов, Аврам Езофович, стал при Александре подскарбием земским, то есть министром финансов.
В xiv – xv вв. Вильно, Ковно, Брест, Полоцк, Львов, Минск, Киев, Владимир (Волынский) и другие города получили «магдебургское право» – городское самоуправление: горожане-мещане избирали городских радцев – советников, ведавших городскими доходами и расходами, и двух бурмистров – католика и православного, судивших горожан вместе с великокняжеским наместником – войтом. С xv в. в городах появляются ремесленные цеха, права которых закрепляются в специальных уставах.
В Польше и Литве не сложился аппарат центрального управления, подобный системе приказов в Москве. При дворе великого князя были должностные лица, но не было государственных учреждений и быстро растущей бюрократии. Подскарбий земский хранил и расходовал деньги, но не собирал налоги; гетман командовал шляхетским ополчением, когда оно собиралось; постоянная армия короля и великого князя насчитывала в xvi в. примерно 5 тыс. наемных солдат. Единственным постоянным органом была великокняжеская канцелярия, где велась дипломатическая переписка и хранился государственный архив – Литовская метрика.
Свои действия великий князь с 1492 г. должен был согласовывать с радой панов в составе епископов, воевод и наместников из числа крупнейших магнатов. Рада управляла страной в отсутствие князя, контролировала все земельные пожалования, расходы и внешнюю политику. Один из знатнейших панов княжества, Альбрехт Мартинович Гаштольд, говорил, что в отличие от Польши «что решается господарем и панами-радой, то шляхтой обязательно принимается к исполнению; мы ведь приглашаем шляхту на наши сеймы как будто бы для чести, на самом же деле для того, чтобы всем явно было то, что мы решаем».
В ходе многочисленных войн великому князю приходилось прибегать к займам у своих князей и панов под залог своих имений. За это паны получали в «заставу» великокняжеские земли и доходы с них до погашения суммы долга. Затем они стали обращаться за субсидиями к другим подданным, так стал созываться «Вальный сейм», который включал не только раду и «значнейших» панов и князей, но и более широкий круг шляхты – как католиков, так и православных. Сначала шляхта приглашалась поголовно, и на сейм приезжали все, кто хотел или имел такую возможность. С 1511 г. представители шляхты стали избираться на местах (по два человека от области – повета); в заседаниях сейма участвовала рада панов, лица, занимавшие важнейшие государственные должности (старосты, «державцы»), а также персонально князья Слуцкие, Друцкие, Лукомские, Свирские, Сангушковичи, Збаражские, Заславские, Корецкие, паны Хребтовичи, Кухмистровичи и представители других знатных фамилий. Вызывались на сеймы и православные епископы как владельцы вотчин, с которых шла земская служба.
Впервые сеймы в таком составе стали собираться при великом князе Казимире (1440–1492). С 1507 г. сейм созывался регулярно; на Виленском сейме 1514 г. было решено продолжать войну с Москвой; сейм 1522 г. одобрил конфискацию захваченных великокняжеских земель; на сеймах 1514 и 1522 гг. шляхта пожелала составить свод общегосударственных законов, а на сейме 1544 г. «рыцарство» просило, чтобы в каждом повете шляхта избирала судью и писаря, которые могли судить любого князя, пана или духовное лицо на своей территории. Все эти пожелания были удовлетворены.
В xvi в. сейм стал высшим законодательным органом Великого княжества. В его компетенцию входило принятие законов, решений о сборе налогов для князя и созыве шляхетского ополчения. В 1566 г. сейм постановил: никакое изменение в законах невозможно без его одобрения. В отличие от сословно-представительных учреждений других европейских стран в сейме была представлена только шляхта – в виде исключения туда были допущены бурмистры Вильно с правом совещательного голоса. Депутаты-послы избирались по воеводствам местными сеймиками и отстаивали на сейме наказы своих избирателей. На местных сеймиках шляхта обсуждала свои сословные дела и выбирала членов местного суда.
Экономический расцвет и политическое влияние польского и литовского дворянства-шляхты обеспечили наметившееся в xvi столетии общеевропейское «разделение труда»: регионы с развитой промышленностью (Фландрия, Нидерланды, Англия, Южная Германия, север Италии) требовали все больше сырья и продуктов сельского хозяйства, поставщиком которого становились страны Восточной Европы. Землевладельцы преобразовывали свои владения в плантации, ориентированные на производство как можно большего объема продукции на продажу. Такие имения, фольварки, требовали массового применения барщинного труда, а вместе с ним и крепостнических порядков.
В 1557 г. в Великом княжестве была проведена реформа – волочная помера: вся земля великокняжеских имений объявлялась собственностью государя и делилась на участки – волоки, за владение ими крестьяне платили денежный оброк; кроме того, каждую седьмую волоку они должны были пахать на великого князя. Эта реформа послужила образцом для введения барщинного хозяйства и на частновладельческих землях. Все землевладельцы должны были предъявлять свои документы на владение, при этом возвращались в «простое состояние» шляхтичи, обманом присвоившие себе это звание и имение. Волочная помера лишила свободы «выхода» крестьянина, который до того мог продать свою «отчину» и стать «вольным похожим человеком». Отныне беглые и самовольно ушедшие крестьяне отыскивались и «осаживались» на пустых волоках. Отменялось и прежнее крестьянское самоуправление: в селах великокняжеские державцы и старосты назначали войтов по немецко-польскому образцу.
По Литовскому статуту 1588 г. за крестьянами сохранялось только право владения движимым имуществом, необходимым для выполнения повинностей с земельных наделов, находившихся в их пользовании. «Человек вольный», осевший на земле феодала и проживший на новом месте десять лет, мог уйти, только откупившись значительной суммой. Закон, принятый сеймом в 1573 г., давал панам право карать крестьян по своему усмотрению вплоть до смертной казни. Виселица являлась обычной принадлежностью двора знатного пана, чему порой удивлялись русские офицеры-помещики в xviii в. Имел шляхтич и привилегию пропинации – право на производство и продажу пива и водки в пределах своих владений.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽