Выбирая свою историю. Развилки на пути России: от Рюриковичей до олигархов
Текст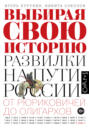


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 64,90 ₽
- Объем: 930 стр.
- Жанр: история России, общая история, политика и власть, популярно об истории
Водружение ярма
Для того чтобы отбиться от монголов, разумеется, нужны были совокупные усилия всех русских княжеств. И надо заметить, что удельный порядок вовсе не препятствовал организации совместных военных предприятий, в которых нередко принимали участие практически все русские земли (как в походе Андрея Боголюбского на Киев в 1174 г.). В марте 1238 г. в битве на реке Сити монголам противостояли соединенные силы Владимирского, Ярославского, Углицкого и Юрьевского княжеств, однако их было явно недостаточно. Соединение усилий Северо-Восточной и Юго-Западной Руси было вполне возможно, а кроме того, для борьбы с монголами можно было опереться на помощь внешнего союзника.
Такого союзника естественно было искать на Западе. Вся Европа в те времена, несмотря на взаимные анафематствования в 1054 г. папы римского и константинопольского патриарха, еще считалась относительно единым «христианским миром», номинальным главой которого был папа. Одним из первых русских князей вступил в переговоры с папской курией Михаил Черниговский, отправивший в 1245 г. на Лионский собор своего кандидата на Киевскую митрополичью кафедру – игумена Петра Акеровича. В том же 1245 г. вступил в сношения с Римом Даниил Галицкий, выразивший готовность в ответ на помощь против татар признать «Римскую церковь матерью всех церквей». Великий князь владимирский Ярослав Всеволодович также, по всей видимости, не рассматривал присягу Батыю как окончательное и бесповоротное решение вопроса о политической ориентации. Во всяком случае, в 1246 г., во время поездки в столицу Монгольской империи Каракорум, куда он был вызван для «утверждения» великим ханом (Золотая Орда номинально оставалась частью монгольской державы, и назначенцам Батыя требовалось утверждение великого хана), он вел переговоры о союзе с папским легатом Джованни дель Плано Карпини и, по уверению Карпини, согласился принять покровительство римской церкви. Не исключено, что эти переговоры, о которых донес Туракине – матери великого хана Гуюка, фактической правительнице империи – русский толмач Темер из свиты Ярослава, и послужили причиной убийства князя в Каракоруме. По свидетельству Карпини, он был отравлен «матерью императора, которая как бы в знак почета дала ему есть и пить из собственной руки; и он вернулся в свое помещение, тотчас же занедужил и умер спустя семь дней, и все тело его удивительным образом посинело».
Великим князем владимирским в соответствии с традиционным порядком стал младший брат Ярослава Святослав Всеволодович. Но уже в конце 1247 г. его племянники Александр и Андрей Ярославичи отправились к Батыю. Они оспаривали великокняжеский стол, ссылаясь на акт ханского пожалования их отцу и указывая, что ханское пожалование сильнее обычая. Батый не решился своей властью разрешить спор и отправил братьев в Каракорум.
В 1249 г. новая правительница империи вдова хана Гуюка Огуль-Гамиш признала Александра Ярославича «старейшим» среди русских князей: он получил Киев. Но великое княжение владимирское было пожаловано Андрею. Александр предпочел не ехать в удаленный и сильно разоренный город и продолжал княжить в Новгороде.
Андрей Ярославич, сев во Владимире в качестве ставленника Каракорума, попытался не только проводить политику, независимую от Золотой Орды (что облегчалось конфликтом внутри империи – у Батыя были натянутые отношения с кланом Гуюка), но вместе с младшим братом Ярославом, княжившим в Твери, начал создавать коалицию для совместной борьбы с монголами. Он заключил союз с сильнейшим князем Южной Руси Даниилом Романовичем Галицким. Союз был скреплен в 1250 г. браком Андрея с дочерью галицкого князя, несмотря на то что при этом нарушались нормы церковного – канонического – права, не допускавшие брака между близкими родственниками, в данном случае двоюродными братом и сестрой.
Даниил Романович также готовился выступить против татар и вел интенсивные переговоры с римской курией, которая в этот период стала проявлять большой интерес к русским княжествам как к возможным участникам антимонгольской коалиции. Переговоры Даниила Галицкого с Римом привели в 1246 г. к формальному распространению власти папского престола на Галицко-Волынскую землю. Немногие сохранившиеся документы (до нас дошли папские буллы, но писем русских князей в нашем распоряжении нет) позволяют тем не менее утверждать, что, выражая готовность подчиниться римской церкви, Даниил Галицкий преследовал исключительно политические цели. Не случайно уже в одну из первых папских булл, посланную в мае 1246 г., включено обещание «совета и помощи» против татар. Между тем от прямого подчинения духовной иерархии Риму Даниил сумел уклониться. Выдвинутый им кандидатом на киевскую митрополию княжеский печатник Кирилл в 1246 г. был направлен для утверждения в Никею к патриарху Мануилу ii, изгнанному крестоносцами-католиками из Константинополя.
В разгар этих антимонгольских приготовлений удар по создаваемой коалиции неожиданно нанес Александр Ярославич, которому, разумеется, не могло быть приятно назначение на почетный, но утративший всякое значение киевский стол. До времени князь терпел. Изменение положения дел в Каракоруме облегчило ему разрешение задачи. Не благоволившая Батыю Огуль-Гамиш была свергнута 1 июля 1251 г., а великим ханом стал друг и ставленник Батыя Мунке. Между ними, по всей видимости, существовало соглашение о полной автономии Батыева улуса. Руки Батыя оказались развязаны, чем и не преминул воспользоваться Александр Ярославич, которому Батый благоволил.
Лаврентьевская летопись (древнейшая из содержащих рассказ о драматических событиях 1252 г.) кратко сообщает, что ходил «Александр князь новгородский Ярославич в татары, и отпустили его с честью великою, дав ему старейшинство во всей братьи его». По сообщению Василия Никитича Татищева, который, работая в 1730-е гг. над своей «Историей Российской», пользовался многими не дошедшими до нас источниками, свои притязания на владимирское великое княжение князь Александр подкрепил изветом на брата: «Жаловался Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение под ним, яко старейшим, и грады отческие ему поимал, и выходы и тамги хану платит не сполна».
В промежутке между прибытием Александра в Орду и возвращением его с «честью» Батый отправил на Русь две карательные экспедиции: одну под командованием Неврюя – против Андрея, другую под руководством Куремсы – против Даниила Галицкого. Андрей и его брат Ярослав были разбиты в сражении у Переславля, после чего Андрей бежал в Швецию, а Ярослава призвали на княжение псковичи[4].
Даниил Галицкий со своей стороны без большого труда отразил нападение Куремсы и повел более решительные переговоры с Римом, требуя в обмен на признание власти папы в церковных делах Южной Руси реальной военной помощи против татар. Дело было улажено в 1253 г.: в обмен на твердое обещание польских князей выставить войско в помощь Даниилу против татар галицкий князь согласился принять от папы королевскую корону.
Получив ярлык на великое княжение и обосновавшись во Владимире, Александр Ярославич, опираясь на монгольскую силу, предпринял шаги по закреплению за собой прав на Новгород, добиваясь признания республикой своим князем того, кто занимал великокняжеский стол во Владимире. Во всяком случае, став великим князем Владимирским, Александр сохранил за собой и новгородское княжение, посадив там своего старшего сына Василия, только с правами наместника.
Новгородцы решительно воспротивились новому порядку. В 1255 г. сторонники самостоятельности выгнали из города Василия Александровича и пригласили из Пскова младшего брата Александра, князя Ярослава Ярославича. Александр двинулся на Новгород ратью и, став под городом, потребовал покорности и выдачи своих противников из числа новгородской знати. Горожане раскололись на две партии. «Меньшие» бояре во главе с посадником Ананьей Феофилактовичем, которых поддерживали простые люди (чернь) и купцы, дали клятву стать всем не на живот, а на смерть «за правду новгородскую, за свою отчину». «Великие» бояре, сторонники Александра, готовились «побити» меньших людей, а князя ввести «на своей воле». Следует обратить особое внимание на то, что в этот период именно новгородское простонародье твердо стояло за старинные вольности и добилось от князя уступок. Столкнувшись с упорным сопротивлением, Александр Ярославич сбавил тон и вместо выдачи всех «врагов» требовал уже только головы Ананьи, угрожая в противном случае пойти на город «ратью». Высланные для переговоров с князем архиепископ и тысяцкий достигли компромиссного решения – Ананья должен был лишь оставить пост посадника, который занял ставленник «великих» бояр Михалко Степанович, вскоре возвратился и великокняжеский наместник Василий Александрович.
Но противоборство Александра с новгородцами на этом не завершилось. Вскоре произошло новое выступление новгородской оппозиции. Обстановка в городе обострилась, когда монголы решили ввести в русских землях регулярную систему сбора дани. Для этого в 1257 г. в Новгородскую, Суздальскую, Рязанскую и Муромскую земли были отправлены монгольские «численники», которые должны были произвести поголовную перепись населения. Александр Ярославич, недавно вернувшийся из очередной поездки в Орду, со своей дружиной сопровождал монгольских переписчиков. Новгородцы взбунтовались, причем на сторону противников подчинения великокняжеским притязаниям и татарским требованиям стал и наместник – сын Александра Ярославича Василий. Новгородцы не дали татарским послам регулярных сборов – «десятины и тамги», ограничившись дарами хану. Монголы отправились восвояси. Не добившись полной покорности сюзерену, Александр жестоко расправился с мятежниками: Василия «выбил» из Пскова (куда тот бежал при приближении отца) и отослал в Суздальскую землю, а тем, кто подбил его на неповиновение, «овому носа урезаша, а иному очи выимаша».
Неудача переписи в Новгороде, несомненно, вызвала недовольство Орды. В 1258 г. Александр был вызван в Сарай и получил военную подмогу для обуздания новгородцев. В 1259 г. дружина Александра Ярославича явилась под Новгородом вновь в сопровождении значительного татарского отряда. Новгородские власти, опасаясь погрома, согласились на ордынскую перепись, но, когда татарские переписчики, сопровождаемые дружинниками Александра, начали «ездить окаянные по улицам, переписывая дома христианские», в городе вновь поднялся мятеж[5]. После недолгого сопротивления новгородцы были сломлены и «дали число», успеху Александра содействовали «великие» бояре, которые, по выражению летописи, творили «себе легко, а меньшим зло». Александр уехал вместе с татарами, оставив наместником своего второго сына Дмитрия. Так был подавлен еще один очаг сопротивления ордынскому игу.
Союз Александра Ярославича с Ордой предопределил подчинение татарами и Юго-Западной Руси. Даниилу Галицкому, оставшемуся без союзников в русских землях, труднее было добиться помощи католической Европы. Монголы, состоящие в союзе с князем-христианином, перестали казаться Европе опасными. В 1258 г. против Даниила было отправлено большое войско под руководством одного из лучших монгольских полководцев, Бурундая, и к 1261 г. сопротивление Юго-Западной Руси было подавлено, Даниил был вынужден даже срыть укрепления многих городов.
Сопротивление установлению ордынского ига на этом, однако, не прекратилось. В 1262 г. восстание охватило практически всю Северо-Восточную Русь. В крупных городах – Ростове, Владимире, Суздале и Ярославле – собрались веча, горожане, взявшие в свои руки власть, изгнали и частью перебили ордынских чиновников и откупщиков дани (часто это были купцы-мусульмане и даже русские люди вроде поразившего воображение современников бывшего монаха Зосимы, принявшего ислам). Позднейшие летописи пытались изобразить русских князей вдохновителями восстания. Устюжская летопись xvi в. даже сообщает, безусловно, вымышленный эпизод о рассылке Александром «грамоты», «что татар бити». Но Александр Ярославич, разумеется, не имел отношения к народному движению – ранние летописи ни слова не говорят об участии в нем князей, а хвалебное «Житие» Александра вовсе не упоминает о восстании. При самом начале восстания Александр поехал в Орду, цель и исход этой поездки нам неизвестны. «Житие» и единственная летопись, упоминающая о ее причинах, сообщают, что хан Берке потребовал присылки русских войск для участия в монгольских походах («гоняхуть христиан, веляще с собою воиньствовати»), а князь отправился в Орду, «дабы отмолити людии от беды тоя». Панегиристы князя предполагают, что в результате его «дипломатических усилий» хан оставил восстание безнаказанным. Но скорее всего, хану Берке, который в это время вел тяжелую войну с ильханом Персии, было не до Руси, и он предоставил разбираться с горожанами самим русским князьям, в преданности которых мог быть вполне уверен. Известно, во всяком случае, что русские отряды впоследствии неоднократно участвовали в монгольских походах.
Таким образом, целенаправленными и долговременными усилиями князя Александра Ярославича ордынское иго над Русью было установлено.
Миф о Крестовом походе
Какие же цели преследовал князь Александр, подводя Русь под ордынское ярмо? Скудость наших источников не позволяет ответить на этот вопрос совершенно однозначно. Поэтому в ходу несколько версий. Традиционная панегирическая трактовка действий Александра Ярославича, несколько модифицированная в 20-е гг. xx в. историками-евразийцами (главным образом Георгием Вернадским) и получившая в последние десятилетия особенно широкую известность в биологически-пассионарной версии Льва Гумилева, сводится к тому, что князь, заключив союз с Ордой, предотвратил поглощение Северной Руси католической Европой и тем самым спас русское православие – основу национальной самобытности.
В основании этой версии лежит представление о глубоком культурном противостоянии православной Руси и католической Европы, будто бы двинувшейся в xiii столетии на Русь Крестовым походом с целью вернуть православных «схизматиков» «в лоно истинной церкви». Орда же представляется историками этого направления в идиллическом виде совершенно толерантного и веротерпимого государства, союз с которым не внушал никаких опасений за чистоту православной веры.
Миф о «благоверном» князе, стойко противостоящем католической угрозе, начали творить уже вскоре после кончины Александра Ярославича, в конце xiii в., когда было составлено его знаменитое житие. В этом памятнике, написанном книжником из окружения митрополита Кирилла (который, напомним, получил поставление в Никее – самом антикатолическом месте тогдашнего мира) при участии сына Александра Невского, князя Дмитрия Александровича, вполне заурядная пограничная стычка на Неве впервые приобретает чуть ли не вселенские масштабы столкновения цивилизаций. По сообщению жития, из которого в основном переписываются батальные картины в наши учебники, на Неве в июле 1240 г. высадилась не просто ватага шведских искателей приключений – явилась рать «короля части Римьскыя от полунощные страны», то есть «католической части Севера». Широкую известность получил эпизод жития о неудаче католической миссии, присланной для обращения Александра Ярославича. Послы из Рима так говорили князю: «Папа наш сказал: «Слышал я, что ты князь славный и храбрый и что земля твоя велика. Того ради послал я к тебе от двенадцати моих кардиналов двух искуснейших, Агалдада и Гемонта, да послушаешь ученья их о законе Божьем». Папские посланцы получили отрицательный ответ в предельно резкой форме, князь после раздумья «с мудрецами своими» будто бы отвечал: «Все это нам хорошо известно, а учения вашего мы не примем».
Ориентация православной церкви на Восток вполне объяснима. Она едва ли могла много приобрести в результате политического союза русских князей с католической Европой и могла потерять очень много в результате обострения отношений с татарами. Церковь в монгольской державе обладала значительными льготами. Только «церковные люди» не подлежали переписи и не несли никаких повинностей. Церковь всячески стремилась упрочить добрые отношения с Ордой, в 1263 г. митрополит Кирилл основал новую православную епархию в столице Золотой Орды Сарае, установив тем самым дополнительный канал постоянных дипломатических сношений с ханами; его примеру вскоре последовала и католическая церковь. Неудивительно, что православные иерархи были верными союзниками Александра Ярославича в его промонгольской политике. Когда князь вернулся из Орды в 1252 г. во Владимир, митрополит Кирилл устроил ему торжественную церковную встречу и сам венчал Александра Ярославича на великое княжение, в 1256 г. митрополит даже сопровождал князя в финский поход, а позднее произнес по нем надгробную речь, где впервые появилась знаменитая позднее формула «зашло солнце земли Суздальской».
Уже в 80-е гг. xiii в. во Владимире начинается почитание Александра Ярославича как святого, в 1380 г. состоялось открытие мощей, а церковный собор 1547 г. формально канонизировал князя в качестве благоверного, то есть защитника истинной веры. Следует иметь в виду, что все это были периоды обострения отношений русской православной церкви с католиками. На церковном соборе в Лионе 6 июля 1274 г. греческая депутация во главе с печатником константинопольского патриарха Георгием Акрополитом принесла присягу в том, что греки «отрицаются от всякого разделения с римской церковью и признают ее главенство». И хотя эта Лионская уния, заключенная под давлением византийского императора Михаила Палеолога, носила чисто политический характер (греки даже сохранили Символ веры без римского добавления об исхождении святого духа «и от сына» – filioque), воспринята она была как акт католической экспансии. В этих обстоятельствах и создается образ Александра Невского как стойкого противника католицизма.
Однако в 40-х – начале 50-х гг. xiii столетия монгольская опасность и оживленные контакты с Римом Михаила Черниговского и Даниила Галицкого привели к заметному ослаблению напряженности в межконфессиональных отношениях. В 1245 г., выступая на соборе в Лионе с призывом к борьбе с Ордой, папа Иннокентий iv упомянул Русь в ряду «христианских» стран, разоренных татарами, а в 1248 г. вступил в переписку непосредственно с Александром Ярославичем.
В своем послании к князю от 22 января 1248 г. папа увещевал русского князя, чтобы тот последовал примеру отца, согласившегося признать верховенство Рима, и просил в случае татарского наступления извещать о нем «братьев Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы как только это [известие] через братьев оных дойдет до нашего сведения, мы могли безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать».
Ответное письмо Александра до нас не дошло, но, судя по содержанию следующего послания папы (15 сентября 1248 г.), князь был готов принять «покровительство римской церкви». Во втором послании Иннокентий iv соглашался на предложение Александра построить в Пскове католический собор и просил принять своего посла – архиепископа Прусского. Но, когда в конце 1248 г. к Александру явились послы от папы за окончательным ответом на предложение о переходе в католичество, он ответил решительным отказом. Похоже, перемена мыслей князя была связана не с защитой православия, а с переменой его взгляда на возможность союза с монголами, с порядками которых он успел хорошо ознакомиться во время пребывания в Сарае у Батыя и путешествия в Каракорум.
Защитник Русской земли
Второй традиционный способ объяснять промонгольскую политику Невского связан с его образом защитника «геополитических» интересов Руси на Балтике. Традиция эта складывается в начале xviii в. В 1724 г. по распоряжению Петра Великого мощи святого были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. Очевидно, что эта акция должна была служить символическому закреплению за Россией прав на новообретенные в результате Северной войны земли. Не случайно по приказу Петра празднование памяти Александра Невского было установлено 30 августа – в день заключения Ништадского мира со Швецией. В дальнейшем этот образ был закреплен в отечественной социальной памяти целым рядом официальных символических жестов. В 1725 г. Екатерина i учредила высший военный орден имени Александра Невского, а в 1753 г. был учрежден ежегодный крестный ход из Казанского собора в Петербурге в Александро-Невскую лавру.
К этому образу после непродолжительного перерыва обратились и советские власти в начале Великой Отечественной войны. В 1941 г. был выпущен на экраны ставший знаковым фильм Эйзенштейна «Александр Невский», снятый еще в 1938 г., но ввиду союзных отношений СССР и Германии «положенный на полку». Вскоре после выхода фильма на экраны его создатели были удостоены Сталинской премии.
В основе этой трактовки мотивов Александра Ярославича лежит представление о скоординированной и планомерной «агрессии немецко-шведских феодалов» в Прибалтике. Решительные же действия Александра Ярославича, как писали в советские времена, «предотвратили потерю Русью берегов Финского залива и полную экономическую блокаду Руси».
В действительности собственно русские земли никогда не были целью немецкой и шведской экспансии, речь идет об освоении «буферных» территорий, заселенных языческими племенами, не имевшими собственной государственности.
Проникновение немцев в Ливонию – прибалтийские земли, населенные племенами ливов, латгалов, земгалов, куршей и эстов – начинается на рубеже xii – xiii столетий. Это были торговые люди, выходцы из Вестфалии и Любека, которые уже раньше завели фактории в городке Висби на острове Готланд. Вскоре вслед за купцами двинулись католические миссионеры. Первым епископом Ливонии был назначен Мейнгард (1186–1196). Новая епископия, столицей которой был городок Икскуль, находилась в зависимости от бременского архиепископа. Распространение христианства встречало сильное сопротивление местных племен, несмотря на то что Мейнгарду оказывал покровительство полоцкий князь Владимир. Мейнгард неоднократно взывал к римскому папе Целестину iii, который практической помощи не подал, хотя и много обещал. Более успешной была поначалу деятельность второго ливонского епископа Бертольда (1196–1199), которому удалось в 1198 г. организовать крупный крестовый поход, но уже в следующем году епископ погиб в столкновении с язычниками. Третьему ливонскому епископу Альберту фон Буксгевдену (1199–1229) удалось усмирить ливов. Весною 1201 г. он основал новый город – Ригу – и перенес туда епископскую кафедру. В 1202 г. для распространения христианства на восточном побережье Балтийского моря Альберт основал духовно-рыцарский орден меченосцев. В 1207 г. он отправился к германскому императору и получил от него в лен всю Ливонию.
Ведя упорную борьбу с прибалтийскими языческими племенами, главным образом эстами и литовцами, немцы нередко заключали союзы с русскими князьями и городами. Так, в 1212 г. Альберт заключил оборонительный и наступательный союз с полоцким князем Владимиром, который отказался в пользу епископа от права взимать дань с ливов и латгалов. Альберт даже породнился с псковским князем Владимиром Мстиславичем, женив своего брата на его дочери. Борьба с эстами шла успешно для ордена, но литовцы нанесли рыцарям сокрушительное поражение под Шауляем в 1236 г., после чего ослабленный орден меченосцев был слит с Тевтонским орденом и стал его филиалом.
В 1219 г. в борьбу за Восточную Прибалтику вступил Вальдемар Датский, который построил здесь крепость Ревель (ныне Таллин) и овладел значительной частью земель эстов – областью Вирумаа.
К середине xiii в. в результате довольно острой борьбы за власть между магистрами ордена и рижскими епископами окончательно оформилось устройство ливонского государства, представлявшего собой средневековую федерацию, состоявшую из Ливонского ордена, Рижского архиепископства, Дерптского, Эзельского и Курляндского епископств и городских общин. Крупнейшие города Ливонии пользовались самоуправлением, важнейшие решения принимали городские советы – раты, возглавляемые бургомистрами. Члены федерации, преследуя собственные интересы, далеко не всегда проводили согласованную политику. Городские власти нередко заключали договоры о торговле со Смоленском, Полоцком, Новгородом, где указывалось, что, если орден начинает войну, «немецкому купцу дела до этого нет».
Русские также нередко обращались за помощью к немцам в ходе междоусобных столкновений. Например, в 1213 г. нашел убежище в Ливонии изгнанный из Пскова князь Владимир Мстиславич, позднее помогавший рижскому епископу в борьбе с Полоцком и даже ставший фогтом (судьей и управителем) одного из орденских замков. В Ливонии же оказался его сын Ярослав и изгнанный из Новгорода тысяцкий Борис Негочевич со своими сторонниками.
По-видимому, какую-то часть псковичей и новгородцев, заинтересованных в развитии торговли с немцами, больше привлекали политические порядки ливонской конфедерации, чем «самовластие», к которому явно стремились Ярослав Всеволодович и его сын Александр. В 1228 г. псковичи решительно отказались участвовать в походе Ярослава Всеволодовича на Ригу и заключили договор о взаимопомощи с рижанами (в частности, рижане обязывались защищать Псков от Новгорода). Новгородцы, в свою очередь, отказались участвовать в предприятии князя «без своей братьи – псковичей». Князю пришлось оставить затею. В 1240 г. немцы вместе с князем Ярославом Владимировичем овладели псковским «пригородом» Изборском, ворота им открыли псковские бояре, бывшие с немцами в сговоре («перевет держали», по выражению летописца).
Столь же мало походила на одностороннюю шведскую «агрессию» борьба за право взимания дани с финских племен. С 1157 г. правители Швеции приступили к систематическому покорению и христианизации Южной и Центральной Финляндии, населенных племенами суоми, тавастов (сумь и емь русских летописей) и карелов. На эти языческие племена новгородцы издавна периодически устраивали набеги, облагая их данью, причем постепенно племенная верхушка включалась в состав русской знати. Южная Финляндия стала объектом довольно острой борьбы, которая велась с переменным успехом.
Шведы во время морских набегов разоряли русские поселения. Но и на шведские берега не раз обрушивались нежданные удары с восточных берегов Балтики. Например, в 1187 г. союзные новгородцам карелы разрушили до основания шведский город Сигтуну (на месте которого позднее будет заложен Стокгольм). Городские ворота разоренной Сигтуны, сделанные в 1152–1154 гг. в Магдебурге по заказу епископа Вихмана, украшают и поныне западный фасад Софийского собора в Новгородском кремле.
Представлять эту довольно рутинную борьбу Ливонии, Дании, Швеции, Новгорода и Пскова за контроль над землями чуди, эстов, ливов, суми, еми и карел согласованной агрессией, и тем более крестовым походом против Руси нет никаких оснований. Тем не менее миф о западной угрозе был создан. Для придания ему некоторого правдоподобия идеологам промонгольской политики, проводимой князем Александром Ярославичем и его потомками, достаточно было вырвать отдельные эпизоды этой прибалтийской сутолоки из контекста и раздуть их до событий европейского, а то и мирового масштаба. Так возникли мифологизированные образы Невской битвы и Ледового побоища. Характерно, что популярная отечественная историческая литература в значительной степени черпает детали описания Невской битвы из «Жития», ну разве что не повторяет вслед за его составителем, что большая часть шведов была побита «от ангела господня» на другой стороне реки, где было «непроходно полку Александрову». Позднее, когда потомки Александра Невского образовали династию московских великих князей, картина битвы украсилась новыми подробностями к вящей славе Александра Ярославича. Так, в московских летописных сводах с конца xv в. в качестве предводителя шведов начинает фигурировать ярл Биргер, которому будто бы лично Александр Ярославич нанес глубокую рану на лбу, «возложил ему печать на лице». Участие ярла Биргера действительно говорило бы о государственном характере шведской вылазки, а победа над ним была бы большой честью. Но, увы, Биргер Фолькунг из Биэльбо – фактический основатель современного шведского государства, жизнь которого известна в подробностях, а имя носит центральный проспект Стокгольма, – титул ярла получил только в 1248 г., шрама на лбу не имел никогда, а поход в финские земли совершил только один, в 1249 г., и вполне успешный.
Сотворение мифа об эпохальном сражении на Неве, начатое антикатолически настроенным митрополитом Кириллом, было продолжено московскими летописцами, а затем дипломатами Петра Великого, которому позарез понадобился предшественник на берегах Невы, и было завершено послушными борзописцами от истории сталинской эпохи, опусы которых должны были подготовить советский народ к борьбе с германским фашизмом. Собственно, до сих пор в основе представлений рядового российского гражданина об этой эпохе лежит полный исторических нелепостей гениальный фильм Эйзенштейна. Между прочим, блестящая критическая рецензия на сценарий этого фильма, написанная академиком М. Н. Тихомировым, называлась «Издевка над историей».
По всей видимости, о реальных масштабах сражения можно судить по потерям сторон. Русских воинов, по сообщению новгородской летописи, пало в бою 20 человек, а то и меньше, «бог весть». Но по именам летописец называет всего четверых, и в том числе сына кожевника. Внимание к столь социально незначительному персонажу, скорее всего, означает, что потери были невелики, во всяком случае сравнительно с другими подобными столкновениями, которые происходили в «буферной зоне» довольно регулярно. Из предприятий шведов и их союзников суоми наиболее известны набеги 1142, 1164, 1249, 1293 и 1300 гг. Новгородцы и их союзники карелы совершали аналогичные походы в 1178, 1187 и 1198 гг., но едва ли этот список исчерпывающий. Многие из этих предприятий были гораздо более значительны по масштабам, чем прославленная Невская битва. Например, в 1164 г. шведы пришли под Ладогу на 55 шнеках (эта большая ладья вмещала до 50 пеших или десяток конных бойцов). Горожане сожгли посад и затворились в крепости, послав за князем Святославом Ростиславичем и новгородцами, четыре дня стойко держали осаду, пока не подошла подмога, разбившая шведов наголову. Лишь небольшой части шведского отряда удалось уйти на 12 поврежденных шнеках. По всему, это был гораздо более значительный и несомненный триумф русского оружия, совершенно, однако, стершийся из народной памяти, отрихтованной столетиями официозной пропаганды.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽