Загадки малорусской истории. От Богдана Хмельницкого до Петра Порошенко
Текст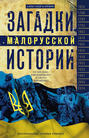


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 23,90 ₽
- Объем: 320 стр. 3 иллюстрации
- Жанр: популярно об истории, публицистика
Загадка Конотопского боя
Бою под Конотопом, состоявшемуся 28 июля 1659 года, на Украине сегодня присвоен ранг битвы (то есть – генерального сражения). Авторы «национально сознательной» ориентации гордо именуют его «одной из самых выдающихся побед украинского оружия», «славным символом национально-освободительной борьбы украинского народа», «военным триумфом», достигнутым «благодаря военным способностям гетмана Ивана Выговского». Эта «мастерски выигранная битва», по словам упомянутых авторов, «засвидетельствовала чрезвычайный героизм и высокий уровень военного искусства вооруженных сил Украины», «коренным образом изменила ход украинско-московской войны, развязанной Москвой в 1658 году».
Юбилеи этого сражения отмечаются в стране на государственном уровне. Еще бы! 100-тысячная, а то и 150-тысячная или даже 200-тысячная (цифры называются разные) московская армия, вторгшаяся на Украину, была «наголову разбита» гораздо меньшим по численности войском украинских казаков. Как тут не восхититься героическим воинством и его гениальным полководцем?
Правда, остается совершенно непонятным, почему, после столь «выдающейся победы», приведшей к «коренному перелому» в войне, сама война была проиграна почти сразу же? Что заставило гетмана-«триумфатора» уже через три с небольшим месяца позорно бежать за границу, бросив не только гетманскую булаву, а и оставив врагам собственную супругу? Куда исчезла «победоносная казацкая армия»? Каким образом «наголову разбитые московские войска» вдруг возродились как феникс из пепла и заняли Украину, практически не встречая сопротивления?
Внятных ответов на эти вопросы «национально сознательные» сочинители не дают. Загадка? Выходит, что так. Попробуем разобраться.
И начнем с того, что никакой «украинско-московской войны, развязанной Москвой в 1658 году» просто не было. На Украине, или, правильнее сказать, в Малороссии, лишь недавно воссоединившейся с Великороссией, разразилась кровавая междоусобица, так называемая Руина.
Непосредственным виновником случившегося оказался Иван Выговский. Движимый корыстью и амбициями, он задумал вернуть малорусов под власть Польши. Попытка реализации такового намерения, естественно, вызвала возмущение в народе. Ряд казацких полков отказался повиноваться гетману. И Выговский решил подавить недовольство силой. Началось вооруженное противостояние.
Центральная власть не вмешивалась в конфликт. К сожалению, в Москве поначалу не разобрались в происходящем. Поступающим из Малороссии сведениям о предательстве гетмана не поверили. Сам же он, по понятным причинам, Кремль о своих планах не информировал. Наоборот, уверял, что изменниками являются выступившие против него казаки.
Якобы для борьбы с этой «изменой» Выговский попросил помощи у крымского хана. И хан, который, в отличие от русского царя, был посвящен в гетманские замыслы, направил для поддержки предателя орду. Татары совместно с Выговским захватывали города и села, разоряли их, истребляя жителей или угоняя их в рабство. А из Москвы только наблюдали за этим.
Лишь когда, подавив сопротивление малорусов, сторонники Выговского стали нападать на великорусские гарнизоны, в Кремле заподозрили неладное. И наконец-то собрались принимать меры.
Весной 1659 года великорусское войско, во главе которого был поставлен князь Алексей Трубецкой, двинулось в Малороссию. Но и теперь оно не торопилось. Трубецкой остановился у первого же, расположенного на его пути, крупного населенного пункта – города Коно-топ. А поскольку в городе засел приверженец гетмана полковник Григорий Гуляницкий, отказавшийся открыть великорусам ворота, князь осадил Конотоп и не пошел дальше.
Руководствуясь полученными из Москвы инструкциями, Трубецкой постарался завязать с Выговским переговоры. В Кремле все еще считали, что гетманская измена – не более чем недоразумение, которое легко уладить.
Гетман от переговоров не отказывался. Но и времени зря не терял. Он вновь обратился к татарам.
На сей раз на помощь ему отправился лично хан Мухаммед-Гирей IV во главе 30—40-тысячного войска (определить более точно количество участвовавших в походе татар исследователи затрудняются). Кроме того, 5 тысяч татар уже находилось при Выговском, в дополнение к 15–16 тысячам казаков. Плюс еще несколько тысяч наемников из Европы (немцев, волохов, поляков, сербов, молдаван) и польский отряд (от полутора до трех тысяч воинов), присланный королем Яном-Казимиром.
Итого общая численность татарской орды с примкнувшими к ней силами гетмана составила 55–65 тысяч. Украинские псевдоисторики называют это войско «союзническим». Но о союзе речь не шла. Выговский просто подчинился хану, по некоторым сведениям, даже присягнул ему, обещая отдать всю Малороссию в вечное владение.
Что касается русской армии, то ее численность можно установить более-менее точно благодаря сохранившимся документам. С Трубецким находилось 28 800 великорусских ратных людей. К ним присоединились 7 тысяч малорусских казаков под командованием наказного гетмана Ивана Беспалого (это были те, кто изначально сохранял верность царю и кого гетман-предатель не успел уничтожить).
Как видим, в числе русские уступали противнику почти вдвое. Что, однако, не делало их обреченными. Царские воины умели побеждать более многочисленного врага. Разумеется, при условии, что командовал ими толковый военачальник.
Вот только назвать толковыми в складывавшейся ситуации действия Алексея Трубецкого как-то не получается. Он проявил непростительную беспечность. Кажется, князь даже не догадывался, что против него идет сам хан с большой ордой, а не слабые отряды Выгов-ского.
Узнав о подходе врагов, Трубецкой отправил против них часть великорусской кавалерии (5 тысяч всадников) и 2 тысячи малорусских казаков. Командующий русской армией полагал, что этого отряда, во главе которого он поставил князя Семена Пожарского, вполне хватит, чтоб одержать победу.
Русские встретились с передовыми частями противника у переправы через речку Куколка, в 12 километрах от Конотопа. Конница Пожарского легко опрокинула оказавшихся перед ней татар и казаков, форсировала водную преграду и начала преследование.
Описывая начало боя, нынешние украинские мифо-творцы на все лады расхваливают «полководческий гений» Выговского, дескать специально отступившего, чтобы заманить русских в ловушку. Справедливости ради следует отметить, что подобные описания опираются на исторический источник – казацкую летопись Самойла Величко. Однако, как установил выдающийся малорусский историк Александр Лазаревский, в ХIХ веке детально исследовавший место сражения, Величко, очевидцем тех событий не являвшийся, рассказывал о бое исходя из предположений, а не точных сведений. С Лазаревским согласны и другие историки, в том числе современные украинские (и даже некоторые «национально сознательные» авторы).
Картина боя, насколько ее смогли восстановить исследователи, тезиса о хитроумном украинском гетмане, заманившем русских в западню, не подтверждает. Во-первых, ходом боя с татарской (татарско-казацкой, если хотите) стороны руководил не Выговский, а Адиль-Гирей, племянник хана (сам Мухаммед-Гирей с основными силами еще не подошел к месту сражения). А во-вторых, никакого заманивания (то есть – завлечения обманом) не могло получиться. Казаки Выговского стали переходить на сторону русских воинов. Они предупредили Пожарского, что на подходе хан с огромной ордой. Но разгорячившийся воевода обещался порубить и «ханишку», и всех его татар.
Он гнал свою конницу вперед, пока не попал в полное окружение. А когда опомнился, было уже поздно. Русские дрались отчаянно, но силы были слишком уж неравны. Большинство воинов сложили головы в бою или попали в плен (и вскоре тоже убиты).
И вновь-таки: украинские авторы «национально сознательной» ориентации, живописуя «великую победу украинцев», всячески преувеличивают потери русской армии. Говорят о 30 тысячах, 50 тысячах, даже 60 тысячах погибших. То, что это количество значительно превышает численность всего русского войска, псевдоисториков не смущает.
Тем временем документы Разрядного приказа (а там велся строгий учет) позволяют назвать точную цифру. В Конотопском бою погибло (или было казнено в плену, непосредственно после боя) 4769 великорусских ратных людей. То есть – практически весь отряд Пожарского вместе со своим начальником. Спастись удалось немногим. Из 2 тысяч казаков Беспалого, по свидетельству его самого, вырваться из окружения сумели несколько десятков. Вместе получается 6–7 тысяч погибших. Немалые потери понес и противник: по разным подсчетам – от 3 до 10 тысяч погибших татар и казаков Выговского.
Только получив известие о трагедии, Трубецкой осознал всю серьезность положения. Он приказал войскам укрепиться в лагере и приготовиться к отступлению.
Отступление началось на следующий день. Огородившись возами, русские направились на северо-восток. Многократно татары и выговцы штурмовали движущийся лагерь, пытались прорваться за ограждение, но, встреченные огнем русской артиллерии, каждый раз откатывались назад, неся большие потери.
В конце концов бесплодные атаки хану надоели. Орда отступила и устремилась грабить малорусские села и города. Все, что нельзя было увезти, «союзники» гетмана предавали огню. Жителей угоняли в Крым, где продавали на невольничьих рынках. Выговский тому не противился, даже содействовал, чтобы угодить хану, а заодно отомстить населению, не желающему участвовать в измене. Дорого обошлась украинцам «выдающаяся победа украинского оружия».
Итак, русские под Конотопом уступили татарам. Но это не являлось сокрушительным поражением. Был разгромлен один отряд. Потеряна часть кавалерии. Но другая ее часть, а также пехота и артиллерия, боеспособности не утратили. Боевые столкновения в последующие дни закончились в пользу русских. Армия отступила в полном порядке.
И конечно же конотопская неудача не стала «коренным переломом» в пользу Выговского. Ужас и траур в Москве, на которые любят указывать «национально сознательные» авторы, ссылаясь на выдающегося русского историка Сергея Соловьева, объяснялись вовсе не военной катастрофой (ее, повторюсь, не было), а иными причинами. Дело в том, что в кавалерийских частях, участвовавших в сражении, служило много московских дворян. Полученное в один день известие о гибели нескольких сотен представителей дворянских родов действительно повергло столичное общество в ужас. Москва погрузилась в траур. Могло ли быть по-другому? Но при чем же здесь «коренной перелом»?
Тут, вероятно, уместно привести сопоставление с результатом сражения у Балаклавы во время Крымской войны. Тогда, в октябре 1854 года, английская легкая кавалерия, в которой служили представители лондонских аристократических семей, атаковала русские позиции и была почти полностью уничтожена артиллерийским огнем (это была одна из немногих побед русской армии в Крымской кампании). Весть о случившемся повергла британскую столицу в шок. Но никакого коренного перелома от этого не произошло.
Однако вернемся к последствиям Конотопского боя. Что было дальше? Да в общем-то, то, что и должно было быть. Малороссийские казаки любили, выражаясь современным языком, «качать права» и устраивали бунты, отстаивая свои вольности. Но все они, от запорожской голытьбы до генеральной старшины, прекрасно понимали, что, оставшись без великорусской защиты, станут легкой добычей для татар и поляков. Испытывать судьбу ради удовлетворения амбиций и алчных запросов гетмана никто не хотел. Против Выговского вспыхнуло восстание.
Запорожцы атаковали татарские улусы, заставив хана поспешить с ордой на защиту своего государства. А без ханской поддержки гетман не мог ничего. Казаки оставили его. Народ отказался следовать за изменником. Малорусское население слало в Москву просьбы о возвращении великорусской армии.
«Уже все Заднепровье непоколебимо стоит на стороне Царя Московского», – сообщал польскому королю о положении в Левобережной Малороссии Анжей Потоцкий, командир небольшого отряда поляков, выполнявших при гетмане роль охраны.
На Правобережье все складывалось аналогично. «Не изволь, ваша королевская милость, ожидать для себя ничего доброго от здешнего края, – писал тот же Потоцкий. – Все здешние жители скоро будут московскими, ибо перетянет их к себе Заднепровье, а они этого и хотят».
И ведь прошло всего три месяца после Конотопского боя. Выговскому не оставалось ничего другого, кроме как позорно бежать. «Выдающаяся победа» оказалась началом его конца. Впрочем, разве с иудами может быть по-другому?
И еще один нюанс. Как вынужден был признать на одной из «научных конференций», посвященных «славной победе под Конотопом», известный украинский литературовед Валерий Шевчук, «в старинной украинской поэзии я не знаю памятника, который бы воспевал Ко-нотопскую битву 1659 года, хотя вообще украинская муза того времени чутко реагировала на выдающиеся события в казацком государстве».
Тоже загадка? Никак нет. Тогдашние малорусы просто не воспринимали исход сражения под Конотопом как свою победу. Потому и не воспевали ее. Так что же празднуют на Украине сегодня? Юбилеи чьей победы отмечают и над кем? Вопросы, понятное дело, риторические.
Выдумка старого гетмана
Многие мифы передавались плутами одного века дуракам следующих веков.
Генри Болингброк
Об этом историческом событии когда-то говорили мало. Не то чтобы замалчивали, а просто не акцентировали на нем внимания. Наверное, напрасно. Может быть, историкам стоило осветить случившееся более подробно. Впрочем, той небольшой информации, которая содержалась в научной литературе, хватало, чтобы любой интересующийся мог для себя составить правдивую картину произошедшего.
Теперь все наоборот. Об этом событии рассказывается много, очень много. А вот узнать правду о нем нелегко. Ибо то, что говорят и пишут на эту тему, как правило, далеко от истины.
«Ответом московского царя Петра I на переход Мазепы к шведскому королю была неслыханная жестокость, которая залила кровью Украину и ошеломила Европу. 2 ноября 1708 года московское войско полностью разрушило гетманскую столицу город Батурин, вырезав всех его жителей, даже женщин и младенцев. Казаков распяли на крестах, которые были установлены на плотах, и пустили вниз по реке Сейм. Гетмана Мазепу, а вместе с ним и всех украинцев, объявили предателями и предали церковному проклятию». «От казацкой столицы не осталось и кусочка, ни один житель не спасся в устроенном московскими пришельцами аду». «Русское войско ворвалось в Батурин. Город был полностью разрушен, а его население перебито». «В городе была устроена кровавая резня: жестоко убиты все его жители, даже женщины и младенцы… Этой карательной акцией Петр I пытался запугать украинцев и окончательно поработить их, лишив стремления к свободе». «Всех казаков и жителей вырезали. Не пощадили ни стариков, ни молодых, ни женщин, ни детей».
Вышеприведенные цитаты взяты из школьных учебников по истории Украины. Аналогичным образом повествуют о «кровавой трагедии гетманской столицы» многочисленные газетные и журнальные публикации, научно-популярные и художественные книги, теле- и радиопередачи. Батуринская тема стала необычайно модной. Обсуждают ее охотно. Причем не только историки.
Видный дипломат, занимавший крупный пост в Министерстве иностранных дел Украины, выступая по телевидению, признается, что на его отношение к России влияет «воспоминание» о «резне в Батурине». Это «воспоминание», по словам дипломата, содержится у него («как и у других украинцев») в «генетической памяти». Известный кинорежиссер, расхваливая собственный (по мнению многих, очень слабый) фильм о гетмане Мазепе, особо упирает на то, что там «впервые в истории кино была показана Батуринская резня». Той же «резне» посвящен сюжет в выпуске новостей (!) на популярном все-украинском телеканале. Автор сюжета информирует телезрителей о событиях почти трехсотлетней давности с такими деталями, будто речь идет о чем-то, чему он сам был свидетелем. И т. д. И тому подобное.
Плач по «жертвам московского геноцида в Батурине» не умолкает. Наслушавшись (насмотревшись, начитавшись) всего этого, вполне можно было бы воскликнуть: «Нет повести печальнее на свете!» Можно было бы… Вот только никакой резни на самом деле не было. Доказательств тому – великое множество.
«Никакого худа ни в ком не видать»
Прежде всего стоит заметить: ни царь Петр Алексеевич, ни руководивший штурмом Батурина Александр Меншиков запугивать население Малороссии (Украины) не собирались. В этом просто не было необходимости. Вместе с великороссами малороссы мужественно сопротивлялись шведскому нашествию. Перебежавшего к врагу гетмана Ивана Мазепу поддержала лишь кучка приближенных. Малорусский народ сохранил верность своему монарху.
«При сем еще доношу вашей милости, – писал Меншиков Петру I 26 октября 1708 года, – что в здешней старшине, кроме самых вышних, також и в подлом народе с нынешнего гетманского злого учинку никакого худа ни в ком не видать. Но токмо ко мне изо всех здешних ближних мест съезжаются сотники и прочие полчаня и приносят на него ж в том нарекание, и многие просят меня со слезами, чтоб за них предстательствовать и не допустить бы их до погибели, ежели какой от него, гетмана, будет над ними промысл, которых я всяким обнадеживанием увещеваю, а особливо вашим в Украйну пришествием, из чего они, по-видимому, в великую приходят радость».
«Мазепа не хотел в добром имени умереть: уже будучи при гробе учинился изменником и ушел к шведам, – извещал царь князя Василия Долгорукого 30 октября. – Однако ж, слава Богу, что при нем в мысли ни пяти человек нет, и сей край как был, так есть». О том же (и в тот же день) писал он адмиралу Федору Апраксину.
Даже казаки, которых Мазепа привел с собой в шведский лагерь, сообщниками его не являлись. Они оказались обмануты предателем и, узнав об измене, покидали гетмана при первой возможности. 30 октября Петр I сообщал белоцерковскому полковнику Михаилу Омельченко, что Мазепа заявил казакам, «будто он идет по нашему, великого государя, указу за Десну против шведского войска. И когда их привел к шведам, то, по учиненному с ними (со шведами. – Авт.) уже договору, велел их окружить тем шведам и потом им объявил свое измен-ничье намерение и отдал тако в руки неприятельские, из которых от него отданных уже многие верные к стороне нашей паки возвращаются».
Итак, царь Петр Алексеевич не считал малороссов предателями. Разумеется, это не значит, что он пребывал в беспечности. Власти делали все возможное, чтобы укрепить верноподданнические настроения в народных массах. Но укрепить не карательными акциями (неоправданная жестокость могла привести к обратному – спровоцировать бунты), а милостями. Уже 28 октября специальным царским указом были отменены «аренды (отдача на откуп винной, дегтярной и табачной торговли. – Авт.) и многие иные поборы», которые, как говорилось в указе, Мазепа «наложил на малороссийский народ, будто на плату войску, а в самом деле ради обогащения своего». Царь увеличил жалованье запорожским казакам, приказывал великороссийским военачальникам обращаться с казацкой старшиной «сколько возможно ласкаво» и т. п.
Еще до обнаружения гетманской измены Петр I принял меры для недопущения в Малороссии конфликтов между войском и населением (такие конфликты во время войн являлись обычным делом в тогдашней Европе). «Надобно драгунам учинить заказ под потерянием живота, дабы они черкассам (так иногда называли малороссиян. – Авт.) обид не чинили; и ежели кто им учинит какую обиду, и таковых велите вешать без пощады», – предписывал самодержец своим полководцам.
Предписания не оставались пустым звуком. «Мы войскам своим великороссийским под смертною казнью запретили малороссийскому народу никакого разорения и обид отнюдь не чинить, за что уже некоторые самовольные преступники при Почепе и смертью казнены», – объявлялось в указе от 6 ноября 1708 года.
Очевидно, что «Батуринская резня» (если бы она действительно имела место) не только не являлась целесообразной, но и противоречила политике царского правительства. Нетрудно прийти к выводу, что резни не было и быть не могло. К выводу, который подтверждается документально.
Восставшие из мертвых?
22 декабря 1708 года избранный казаками вместо Мазепы новый гетман Иван Скоропадский выдал батуринскому атаману Данилу Харевскому универсал, разрешавший жителям Батурина вновь селиться на старых местах. Тем самым жителям, которые якобы были «вырезаны московским войском».
Между тем «вырезанные» разрешением воспользовались. Опись города, произведенная в 1726 году, насчитала (цитирую по составленному выдающимся малорусским историком Александром Лазаревским «Историческому очерку Батурина»): «прежних батуринских жителей, поселившихся слободами – 25 дворов; торгующих мелочным товаром – 17 дворов; ремесленников, прежде бывших батуринских жителей, которые по разорению Батурина поселились в старых домах на своих местах (снова вспомним цитатку из школьного учебника: «От казацкой столицы не осталось и кусочка, ни один житель не спасся». – Авт.): цеха шевского (сапожников) – 38 дворов, цеха кравецкого (портных) – 28 дворов, цеха калачниц-кого – 11 дворов, цеха ткацкого – 12 дворов, цеха рез-ницкого (мясников) – 9 дворов, кузнецов – 15 дворов, музыкантов – 6 дворов, гончаров – 5 дворов, плотников – 5. Живущие при Батурине в слободах прежние жители: в слободе Подзамковой – 19 дворов, в слободе Горбаневской – 31 двор, в слободе Гончаровской – 72 двора. Сверх того, в слободе Гончаровской живут бывшие служители гетманского двора, ныне принадлежащие к Обмочевскому «дворцу», – 12 дворов и «рыбалок», принадлежавших к гетманским батуринским рыбным ловлям, – 9 дворов».
А еще: «Мельники, мерочники и посполитые люди, которые прежде надлежали ко дворцу Мазепы, а ныне к Обмочевскому дворцу принадлежат – 82 двора» и «30 дворов крестьян надлежащих до двора Мазепы». Это жители «посполитого звания». Кроме них опись зафиксировала наличие в Батурине казаков (104 двора). Они жили и здравствовали, не ведая, что когда-нибудь их запишут в «жертвы геноцида».
Так что же произошло в Батурине 2 ноября 1708 года?
А было так
В Батуринском замке Мазепа сосредоточил свою артиллерию (70 орудий), огромное количество боеприпасов и продовольствия. Все это он намеревался передать шведскому королю Карлу XII, что значительно усилило бы армию последнего.
Со своей стороны, царские военачальники стремились не допустить осуществления замыслов предателя. Получив известие об измене гетмана, Александр Меншиков поспешил с войском к казацкой столице. Но командовавший местным гарнизоном сердюцкий полковник Дмитрий Чечель, бывший в сговоре с Мазепой, отказался впустить царских солдат. Еще до подхода Меншикова сердюки (иностранные наемники, находившиеся на службе гетмана) по приказу Чечеля силой согнали жителей Батурина в замок и подожгли городские предместья. По великороссийским полкам мазепинцы открыли пальбу из пушек.
Переговоры ни к чему не привели. Тем временем к городу двигались шведы. Пронесся слух, что они совсем близко. Меншикову не оставалось ничего другого, как атаковать замок.
Сражение длилось недолго. Отчаянно оборонялись лишь сердюки. Большинство казаков во главе с прилуц-ким полковником Иваном Носом предпочли сложить оружие. Через два часа все было кончено. Кое-кого из пленных мятежников действительно казнили. Но только их. Об этом, между прочим, имеется собственноручное свидетельство Петра I.
9 ноября царь направил коменданту Белоцерковского замка письмо с приказом: посылаемых к Белой Церкви «для лучшего отпора неприятелю» великороссийских ратных людей «впускать безо всякого прекословия». Монарх подозревал, что в замке могут находиться тайные приверженцы Мазепы (незадолго до перехода к шведам гетман внезапно озаботился усилением тамошнего гарнизона и направил туда новый отряд казаков). Поэтому царь Петр Алексеевич предупреждал: «Если же кто дерзнет сему нашему, великого государя, указу учинить непослушание и тех наших великороссийских людей впустить в замок не похощет, и с теми учинено будет по тому ж, как и в Батурине с сидящими, которые было ослушали нашего царского величества указу, в Батуринский замок наших великороссийских войск не впускали, но взяты от наших войск приступом; и которые противились побиты, а заводчикам из них учинена смертная казнь».
Самодержец указывал четко: убиты были те, кто сопротивлялся («которые противились»), а из пленных смерти предали зачинщиков («заводчиков») мятежа. А ведь данным письмом Петр I старался запугать вероятных предателей. Он не стал бы преуменьшать строгости применяемых к изменникам мер. Скорее наоборот, мог эту строгость преувеличивать. Но угрожать всеобщей резней монарху и в голову не пришло.
Письмо с той же целью (предупредить возможную измену) и описанием наказания батуринских бунтовщиков («которые противились, те побиты, а заводчики из них казнены») царь направил коменданту Прилуцкого замка. Однако и в том письме угрозы резней нет и в помине.
Как видим, репрессии в Батурине были направлены против вооруженных мятежников, а никак не против насильно согнанных мазепинцами в замок мирных людей, тем более женщин и детей. Конечно, там, где гражданское население оказывается в эпицентре военных действий, случаи гибели обывателей – не редкость. Могли такие случаи иметь место и в Батурине. Но все же массовой смерти жителей удалось избежать.
После взятия Батуринский замок сожгли. Правда, не сразу. Еще 4 ноября Петр I писал Меншикову, что если есть надежда не допустить захвата Батурина шведами, его следует защищать. В противном случае, приказывал царь, замок со всеми припасами нужно сжечь, а пушки вывезти, так как «когда в таком слабом городе такую артиллерию оставить, то шведы также легко могут взять, как и мы взяли».
Меншиков долго не колебался. Замок был укреплен плохо. Времени на реставрацию старых укреплений и строительство новых не оставалось. Шведская армия представляла собой внушительную силу. Шансов устоять против нее в Батурине практически не было. И военачальник принял неприятное, но с военной точки зрения единственно правильное решение…
Огонь уничтожил замок. Русское войско отступило. Покинуло полуразрушенный (подожженный еще Чече-лем, потом пострадавший во время боя) город и население. Покинуло (а не было уничтожено), чтобы после ухода оккупантов вновь вернуться на свои места. «Город был сожжен и разорен, а жители его разбежались», – констатирует Александр Лазаревский (кстати сказать, видный украинофил, который не стал бы замалчивать «обиды», понесенные Украиной от великороссов).
Рождение мифа
Откуда же тогда взялся миф о «Батуринской резне»? Сочинил его. Иван Степанович Мазепа. Пытаясь подбить казаков к мятежу, гетман-изменник принялся повсюду рассылать свои универсалы, переполненные кле-ветами на царя и великорусский народ. Мазепа уверял, что Петр I замыслил погубить малороссов, хочет силой переселить их всех за Волгу, а Украину заселить великороссами, что с этой целью московское войско уже начало нападать на украинские города, выгонять оттуда жителей и т. д. Сообщение о «резне» в казацкой столице как бы иллюстрировало эти вымыслы.
Так произошло рождение мифа. Остальные небылицы, придуманные Иваном Степановичем, вскоре забылись по причине их очевидной абсурдности (ведь не последовало никаких депортаций, не было и нападений на города). А Батуринский миф получил долгую жизнь. Он нашел отражение в писаниях шведских мемуаристов, затем перекочевал в некоторые исторические сочинения и особенно был растиражирован с помощью печально известной фальшивки, так называемой «Истории русов».
Разумеется, своих соотечественников Мазепа не убедил (хотя стремился он прежде всего именно к этому). Малорусы хорошо знали, что в действительности произошло в Батурине. К тому же не замедлило официальное опровержение. 8 декабря 1708 года гетман Иван Скоропадский издал универсал, где разоблачил ложь своего предшественника. Касаясь темы Батурина, Скоропадский признавал, что при штурме замка было убито много мятежников. Но он тут же подчеркивал: «Однако же, що о женах и детях, о гвалтованю панен и о ином, що написано во изменничьем универсале, то самая есть неправда… Не тылко тые не имеючие в руках оружия, але большая часть з сердюков и з городовых войсковых людей, в Батурине бывших, на потом пощажены и свободно в домы, по Указу Царского Пресветлого Величества, от князя, Его Милости, Меншикова, отпущены».
Зато поверили Ивану Мазепе шведы. Подойдя к Батурину, они застали там руины и пепелища, обгорелые трупы и ни единой живой души. А гетман, не жалея красок, описывал ужасы массовой резни. Таким образом Мазепа пытался оправдаться перед шведским королем, объяснить провал своих предательских планов. Дескать, казаки не пошли за ним потому, что испугались свирепого и беспощадного царя Петра. Короля такое объяснение устроило, а Украине оно обошлось очень дорого.
Шведы уверовали, что причина поддержки населением царских войск заключается всего лишь в элементарном страхе. Уверовали и решили действовать по принципу: клин клином вышибают. Они делали все, чтобы внушить малороссам еще больший страх. Захватчики жгли города и села, уничтожая их жителей без разбора. Творилось это с ведома, а иногда и при участии Ивана Мазепы. Естественно, что желаемого результата оккупанты не достигли (борьба против них только усилилась). Однако тысячам малороссов (в том числе и женщинам, и детям) выдумка старого гетмана стоила жизни.
Уроки русофобии
После 1991 года эта выдумка распространяется в Украине с новой силой. Давно уже обнародованы опровергающие ее факты и документы. (Например, универсал Ивана Скоропадского, разоблачающий Мазепину клевету, опубликован еще в 1859 году. Работа Александра Лазаревского с обширными извлечениями из Описи Батурина – в 1892 году.) Но современные украинские «батури-новеды» об этих опровержениях не знают и не хотят знать. Они свято верят в миф, сочиненный когда-то исключительно с пропагандистской целью. Как тут не вспомнить слова английского философа, вынесенные в эпиграф настоящей статьи?
Давайте представим на минуту, что историю Великой Отечественной войны у нас станут излагать, опираясь на агитки, подготовленные ведомством Йозефа Пауля Геббельса. И при этом будут игнорировать все, что данным агиткам противоречит. Насколько объективной будет такая «история»? Вопрос, безусловно, риторический.
Но ведь подобным образом излагают ныне в нашей стране историю шведского нашествия 1708–1709 годов. Излагают не только в газетках «национально сознательной» направленности (тут удивляться не приходится), но и на школьных уроках. Уроках русофобии, густо замешенной на лжи. Если вера в батуринский миф подогревает неприязнь к России даже у великовозрастного дяди из внешнеполитического ведомства, то какие чувства могут возникать в юных душах? И к чему это приведет? Может, стоит задуматься и об этом?
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽