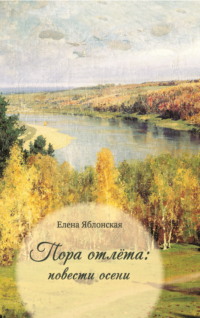Читать книгу: «Пора отлёта: повести осени», страница 4
Легко сказать! Обе математики и физику Зелёный сдал на пятёрки, но вот сочинение… Я, холодея, вспоминала, как не поступил на мехмат мой одноклассник Мишка. Точно такой же расклад: обе математики – пять, сочинение – два, хотя Мишка писал, что называется, от души, по любимому нами «Петру Первому» А. Н. Толстого. Мы уговорили Мишку пойти на апелляцию.
Он рассказывал, как молоденькая преподавательница развернула щедро исчёрканный красным Мишкин труд и, вздыхая, сказала:
– Ну бог с ней, с орфографией! Про запятые я уж не говорю… Но, молодой человек, объясните мне, ради всего святого, почему вы Алексашку Меньшикова на всех страницах упорно называете Аркашкой?
Мишка только рукой махнул и пошёл… в МИФИ.
Я боялась повторения чего-то подобного. Серёжка писал как кура лапой, орфография туда-сюда – с шестого класса нанимали репетитора, но запятых всё равно не признавал. Главное же – они все, в отличие от нас с Мишкой, ничего не читали. Ни-че-го! Кроме Толкина и Ника Перумова. Редкие школьные сочинения за Серёжку писала я – не зря же получила четвёрку на химфаке. Одна надежда – на свободную тему про компьютеры.
Накануне дня сочинения позвонила Татьяна:
– Ну как вы? Готовы?
У Таньки, закончившей энергетический, потому что не хватило одного балла на физфак, тоже особые отношения с МГУ.
– Оля, ты спятила? Какая свободная тема?! Ты что, забыла? В МГУ отродясь не бывало свободных тем! И у них там до сих пор вся литература заканчивается Чеховым и Горьким!
Меня прошиб холодный пот. Ну, конечно! Я писала в семьдесят шестом году про «Вишнёвый сад», а у Таньки на несколько лет раньше было горьковское «На дне». Что же делать?
Зелёный испугался, но наотрез отказался читать брошюрку с «золотыми сочинениями»:
– Это же их сочинения, а не мои!
– Спокойно! – кричит в телефон Татьяна. – У меня есть что-то типа краткого курса, изложение школьной программы по литературе.
Понимая, что «краткий курс» наверняка валяется на любом лотке, я суеверно рванула через весь город к Тане.
И, выйдя на «Площади Ильича», вдруг увидела: вдаль, к храму в мелких луковках-маковках, уходит прямая, ярко освещённая солнцем дорога – улица Сергия Радонежского. Я вспомнила, что наш Серёжка, родившийся восьмого октября и названный по имени прадеда Сергея Николаевича, десять лет назад был крещён в честь этого святого. И Сергий Радонежский считается покровителем учащихся и студентов. Я добежала до церкви и бухнулась на колени перед ласковыми и грустными, всё понимающими глазами старика с овальной бородкой и свитком в руке.
Зелёный всю ночь читал «краткий курс». С экзамена явился бледный, но спокойный. С достоинством рассказывал, что писал сочинение на тему «Нравственный облик Свидригайлова и Лужина». По Достоевскому. «Преступление и наказание».
– Да какой у них нравственный облик?! Это же два отпетых негодяя!
– Ну почему же, мама? В каждом человеке можно найти что-то хорошее. Я рассматривал их в сравнении…
– Но почему именно Достоевский?! Это же самое трудное!
Оказалось, две другие темы совсем не годились – поэзия Пушкина и поэзия Лермонтова. Да уж, нравственные негодяи нам как-то ближе.
Больше всего меня смущало то, что как раз «Преступление и наказание» в Серёжкином классе бурно обсуждали и Зелёный имел по этому поводу особое мнение.
Пришёл как-то возмущённый:
– Ирина Викторовна говорит, что старик Мармеладов пьёт, потому что его среда заела! При чём тут среда? Ему просто нравится пить, как дяде Мише.
Я была вынуждена согласиться. «Дядя Миша», тот самый, пролетевший в своё время мимо мехмата, утверждает, что питие совершенно необходимо ему для работы, он так вдохновляется. Кроме того, его, Мишкин, организм устроен особым образом. Мой одноклассник – физик-теоретик, доктор наук.
Однако уже на следующий день после сочинения Серёжка скис и заявил, что, пожалуй, поедет с бабушкой на дачу. Поразительно! Зелёный был принципиальным и последовательным противником дачи, которую он люто ненавидел за отсутствие компьютера, телевизора и даже телефона – мобильниками наша семья тогда ещё не обзавелась.
Так и говорил с неподдельным отвращением:
– Я ненавижу это средневековье!
Но и когда никаких компьютеров ещё не было, а Серёжка был совсем маленьким, он каждую пятницу заявлял бабушке, тащившей его на дачу:
– А я не хочу дышать воздухом! Я хочу сидеть в вонючем дворе!
В общем, Зелёный так себя зарекомендовал, что на дачу его давно не приглашали.
Теперь же мама очень обрадовалась:
– Наконец-то разум возобладал, подышишь воздухом… Ты же как с креста снятый!
– Крест тут ни при чём. Я буду тебе помогать, копать…
– Да чего там копать-то в конце июля… – начала было мама, но, увидев папину предостерегающе поднятую бровь, закудахтала: – Да-да, моя детонька, поможешь бабушке… – И, всплеснув руками, унеслась на кухню.
Послезавтра папа и Игорь на работе. Ну что ж, значит, я съезжу в университет, посмотрю результаты и если… не три, то позвоню соседям по даче, Васильевым, потому что если не три, то надо срочно забирать документы из МГУ и нести их в Бауманский…
– Не надо звонить Васильевым, – сказал Серёжка страдальчески. – Я в любом случае приеду послезавтра, но ты всё равно сама съезди, посмотри…
Они уехали. А я на подкашивающихся ногах, непрерывно ощупывая рукой впервые в жизни надетый крестик под янтарными бусами (бусы я носила как талисман – мамин подарок!), брела по залитому июльским солнцем проспекту вдоль стройных задиристых копий университетского забора и бормотала:
– Батюшка Сергий, помоги! Только бы три, только бы три…
И наконец…
– Тройка! Мы поступили!
Всё ликовало и пело вместе со мной. Я всем всё раз и навсегда простила – и этому же самому ослепительному солнцу, казавшемуся мне чёрным двадцать четыре года назад, и моей поступившей подруге, грациозно сбегавшей со ступеней химфака, и шпилю главного здания, который – я ощущала физически – колол меня в спину, между лопаток, потом ещё долгие, долгие годы…
4
Серёжка учился на ВМК с упоением. На первом курсе он не пропустил не то что ни одной пары, но, по-моему, ни одной минуты. Со второго семестра даже получал повышенную стипендию. Правда, рефераты по философии, социологии, религиоведению писала я. Не без участия Зелёного, конечно. Он скачивал из интернета необходимые материалы. Как-то, чтобы доказать сыну, что некоторые формы жизни могут существовать и вне компьютера, я отказалась от услуг интернета и почти всё переписала из Тальберга. Реферат назывался просто и скромно: «История православного христианства».
Конечно, я не стала скрывать от домашних, что Серёжка обязан поступлением самому Сергию Радонежскому. Мама отнеслась к этому с умилением, Игорь – скептически-вежливо, папа – как к чему-то естественному, а сам Зелёный любил поприкалываться.
– Мама, не могла бы ты попросить Сергия Радонежского, чтобы мне поскорее спихнуть курсач?
– Ещё чего!
– В самом деле, Сергей, – замечал дед, – ты полагаешь, преподобному там больше заняться нечем, кроме твоей курсовой?
Папа мой, убеждённый материалист и дарвинист, необыкновенно почитает Сергия Радонежского и своего небесного покровителя архиепископа Геннадия Новгородского. Должно быть, за строительство и упрочение государства Российского.
Тогда-то я и купила, правда уже другую, книжку Ф. И. Гиренка. Та же серия «Путь к очевидности»: «Патология русского ума (Картография дословности)». «Патология», хотя теперь почему-то через дефис, продолжала меня смущать. Да и ёрнические характеристики русских философов бросались в глаза даже при беглом перелистывании и немного претили. Книгу я всё же купила, больше из уважения к любимому сыном МГУ, а купив, забросила. Тогда я читала «Монархическую государственность» Льва Тихомирова и «Народную монархию» Ивана Солоневича. К сожалению, в нашей редакции философских диспутов уже не возникало: нам с Лёшкой и Павликом выделили отдельную комнату, так называемую компьютерную, где ребята, пользуясь отсутствием Семёна Львовича, без конца обсуждали футбол, а я сердилась и обзывала их маньяками.
Я открыла «Патологию» года через два в метро и, как всегда, честно начав с авторского предисловия, остановилась на седьмой странице. Меня будто пронзило высоким и чистым звуком, и пробежала по телу звонкая, искрящаяся молния. И в этом мгновенном грозовом разряде вдруг возникла когда-то виденная, может быть на картине или во сне, бесконечная равнина, и бешено несущиеся по небу косматые тучи, и волнующаяся, ходящая волнами рожь, и одинокий кряжистый дуб-богатырь… Фёдор Иванович писал: «Я не россиянин. И не гражданин мира. Но в той мере, в какой я продолжаю быть русским, возможна Россия. И возможно существование в ней разных народов. То есть возможен русский космос…» И ещё: «…утверждая свою принадлежность к человечеству, я пошёл бы по пути новоязыческого отказа от богочеловека. Ибо русские уже отказывались от себя во имя человечества. Ещё раз я отказаться не могу. А если отказ неизбежен, то лучше бы мне тогда и вовсе не рождаться».
А если всё это не так, то лучше бы и мне не рождаться… Это было именно то, о чём я всё время думала, но почему-то не смела произнести вслух. И никому никогда не говорила, даже папе, когда мы слушали по телевизору мерзкие разглагольствования какой-нибудь «Культурной революции» о «патриотизме – последнем прибежище негодяя» и папа морщился: «Да выключите вы эту гадость!» – а Игорь легкомысленно отвечал: «Да ладно вам, Геннадий Сергеич! Это даже любопытно!» Папа фыркал и уходил на кухню.
В редакции я немедленно рассказала Павлику и Лёшке о своём открытии Фёдора Ивановича. Оказалось, Павлик его прекрасно знает, то есть не лично конечно. Просто жена Павлика Маша училась на филологическом и ходила на лекции профессора Гиренка. А Машин знакомый с философского факультета, ученик Гиренка Алексей Нилотов, даже написал статью о любимом учителе: «Гиренок как растлитель».
– Как это?!
– Не пугайтесь, Ольга Геннадьевна! Имеется в виду – растлитель философов.
Лёшка всем этим крайне заинтересовался и выпросил у меня «Патологию». Мне очень не хотелось с ней расставаться – Лёшка ведь только верстает быстро, а читать будет годами. Но с другой стороны, человек, возможно, впервые за много лет собрался что-то почитать вместо смотрения «Дома-2»… Я отдала книгу, бросив прощальный взгляд на большую, во всю страницу, фотографию Фёдора Ивановича. На ней немолодой уже, худощавый и узкоплечий человек в сером джемпере что-то говорил, подняв брови домиком и поднеся к подбородку крупную мужицкую ладонь с длинными, как у моего дяди Жени, «музыкальными» пальцами. Своим простецким лицом, напоминающим сваренное вкрутую и облупленное яичко, он нисколько не походил на своего великого тёзку Шаляпина, в простонародных чертах которого, казалось мне, изначально угадывалась будущая барственность и аристократизм. И уж тем более не был он похож на другого своего, не менее знаменитого тёзку – Фёдора Ивановича Тютчева, дворянина и дипломата, тем не менее почему-то представлявшегося мне нигилистом-интеллигентом из разночинцев. Должно быть, из-за очков, худобы и длинных волос. И на алтайского земляка своего, Василия Макаровича Шукшина, Гиренок, пожалуй, похож не был. А вот на шукшинских чудиков – даже очень. Наивным, беззащитным взглядом и смущённой, по-детски беспомощной улыбкой.
– Вася был, конечно, да-а… – задумчиво говорил дядя Ваня, однокурсник Шукшина и одноклассник моего папы. И в голосе громадного дяди Вани, занимавшего собой почти всю нашу шестиметровую кухню, серебряной стрункой звенела нежность.
Это было у нас на кухне. Я училась в девятом классе. Папа и Василий Иванович, завкадрами папиного института, пришли с первомайской демонстрации, а дядю Ваню они встретили во дворе.
Василий Иванович разливал «Столичную» по хрустальным стопочкам, дядя Ваня резал «Краковскую» колбасу со шкурками на газете «Известия», а папа, подняв брови, озабоченно рассматривал вытащенную из холодильника и вчера ещё почищенную и нарезанную мамой селёдку в тонких прозрачных луковых кольцах и лунных бликах постного масла:
– Кажется, луку маловато… Оля, очисть-ка небольшую…
В таком состоянии нас и застала мама, прилетевшая со своей демонстрации.
– Товарищи, вы же интеллигентные люди! – восклицала она, таща из шкафчика шуршащую крахмальную скатерть. – Ваничке простительно – богема… Но ты, Геннадий…
Дядя Ваня был режиссёр-документалист.
Мне тоже досталось:
– Здоровенная же девка! Могла бы сообразить…
– Лёля, оставь… – морщился папа.
– Елена Фёдоровна, не хлопочите, мы на минуточку, – конфузился Василий Иванович.
Конечно, их «минуточка» затянулась допоздна, но за белоснежной скатертью о Шукшине в тот вечер уже не говорили. Зато пели песни. После «Синего троллейбуса» Василий Иванович затянул «У незнакомого посёлка, на безымянной высоте…». Это получилось так хорошо, что даже мама перестала бегать на кухню и пела вместе с ними.
Правда, после песни она снова заметалась – раскрасневшаяся, в красивом сиреневом платье и привезённых из Прибалтики крупных янтарных бусах, с выражением почти отчаяния:
– Ах, бефстроганов подгорит!
– Мама, я принесу… – шептала я, но она меня не слышала и не видела.
– Лёля, прекрати немедленно! – грозно кричал дядя Ваня.
– Леночка, побудьте с нами, – лепетал уже пьяненький Василий Иванович, норовя поцеловать ручку, ставящую на стол очередную салатницу.
И только папа, как и я, знавший, что маму в чаду гостеприимства ничем не остановить, безнадёжно махал в её сторону рукой и подливал дяде Ване:
– Иван, а ты помнишь…
Потом вдруг заговорили о близящемся Дне Победы, об обороне Москвы, и кто-то произнёс: «Дмитров».
– Так вот же, Оля с классом недавно ездила на экскурсию, – сказал папа.
Все обернулись ко мне – я сидела «с ногами» в углу дивана – и Василий Иванович, грузно развернувшись ко мне всем корпусом вместе с затрещавшим под ним стулом, рассказал вроде бы специально для меня, как страшным морозным декабрём сорок первого его дядя, двадцатилетний московский ополченец, лежал в окопе под Дмитровом. Они замерзали и уже ни о чём не думали и ни на что не надеялись, как вдруг перед рассветом заговорила с нашей стороны артиллерия. Это была артподготовка, но они этого не поняли, их же не предупредили… А когда рассвело, они увидели, как по дмитровским холмам бесшумно скользят на лыжах автоматчики в белых маскхалатах.
– Как ангелы! – сказал Василий Иванович и взмахнул руками.
Это были подошедшие к Москве сибирские батальоны. И тогда они поняли, что спасены. И Москва спасена!
– А вы где были во время войны, Василий Иванович? – спросила я от смущения, чтобы что-то сказать: мне казалось, что все смотрят на меня как-то испытующе.
– В Казани, в эвакуации, – виновато ответил он. – Мне, Олечка, одиннадцать было… – И беспомощно развёл руками.
Было первое мая семьдесят пятого года. На груди у мамы медово переливался прибалтийский янтарь, а в распахнутые окна нашей хрущёвки ломилась зацветающая черёмуха.
5
Я очень тосковала по так и не прочитанной книжке Фёдора Ивановича – отнимать её у Лёшки было совестно, а в магазинах никаких книг Ф. И. Гиренка больше не попадалось. И вдруг соседи по даче, Васильевы, узнав от мамы, что я интересуюсь философией, дали для просмотра кассету с «Философскими чтениями» – передачей телеканала «Спас». Этот «Спас» наряду с какими-то ещё кабельными каналами совершенно бесплатно ловился в нашей Курослеповке, наверное, оттого, что рядом располагался одноимённый академгородок с собственным телевидением.
Телевизионный Фёдор Иванович ещё больше напоминал шукшинских героев. Мягко и виновато улыбались добрые и чуть лукавые глазки врубелевского Пана в тон голубенькой рубашечке.
– Вы, кажется, не любите интеллигенцию? – с тонкой улыбкой спрашивала красивая ведущая, кандидат философских наук.
– Не люблю! – свирепо говорил Фёдор Иванович. – Ведь она-то, интеллигенция, как писал Розанов, – это самый главный убивец и есть! Когда ж они, все эти режиссёры, делом, наконец, займутся, вместо того чтобы…
А с лица его не сходила улыбка, добрая и виноватая – за режиссёров, что ли?
Ну, эту песню про проклятую нашу и во всём отныне и во веки веков повинную интеллигенцию мы уже от кого только не слышали! А в чём, собственно, она, мы то есть, так провинились? Родители мои, деды и прадеды политикой не интересовались, а только и делали, что работали! Правда, ещё в восьмидесятые и в начале девяностых принято было не интеллигенцию ругать, а, напротив, шариковых всяких и швондеров. Они, впрочем, тоже не нэпманами были, как верно подметил сам Шариков.
Я впервые прочитала самиздатовское «Собачье сердце» на третьем курсе, в семьдесят девятом году, в общежитии нашего института, лёжа на кровати подруги Маринки из Кишинёва. Сама Маринка, как всегда, носилась по общаге. Было ужасно смешно и… обидно.
«Как же Булгаков нас ненавидит!» – думала я.
«Нас» – это Шарикова, Швондера, Маринку Зельцер и меня, Ольгу Преображенскую, можно сказать внучку Филиппа Филипповича. Правда, деда моего звали Сергей Николаевич и был он инженером, а не врачом. «Инженер-химик-технолог» – точно такая же запись появится через три года в моём и Маринкином дипломах. Но вот мой прадед был соборным протоиереем, как и батюшка Филиппа Филипповича Преображенского.
Все Преображенские с незапамятных времён служили священниками в Малороссии и, как философ Григорий Сковорода, обязательно заканчивали Киевскую духовную академию, в которой, кажется, преподавал и отец Михаила Афанасьевича Булгакова. Дед мой Сергей Николаевич, родившийся в конце девятнадцатого века, первым нарушил священническую традицию. Был он не только поповичем и инженером, но и капитаном царской армии, но ни дня не воевал, а служил на военных заводах. В Киеве, Кишинёве, Саратове… Из Саратова они с бабушкой и драпали от большевиков аж до Читы. Папы моего тогда ещё и в помине не было.
Отец Николай Преображенский чудом уцелел в революцию. Спасли его «швондеры». В село, где служил прадед, пришли петлюровцы и вознамерились устроить погром в близлежащем местечке. Прадед умолил не проливать кровь. Евреев не тронули, только ограбили, причём пан полковник обмолвился: «Благодарите вашего попа!» А когда пришли красные и потащили к стенке отца Николая, явилась депутация евреев и упросила пощадить батюшку. Прадеда тоже ограбили, но не расстреляли. Он умер в двадцатые годы своей смертью, от старости и переживаний, а может быть, и от голода, доживая век в хатах крестьян, своих прихожан.
А деда Сергея Николаевича поезд нёс на восток по бескрайним российским просторам. Часто в трескучую январскую полночь поезд, устало выпуская пары, останавливался.
«Дальше не поедем – дрова кончились!» – объявлял машинист.
Все выходили, собирали сучья, рубили деревья. А иногда поезд останавливался, потому что пути были завалены, и в вагоны входили в дублёных полушубках и заиндевелых бородах «красные сибирские партизаны»: «Которые офицерья – выходите!»
Мой тридцатидвухлетний дед надвигал на глаза широкополую шляпу, поднимал воротник драпового пальто. Кое-кого выволакивали. В колкой морозной тишине раздавались сухие точные щелчки выстрелов. Ели всплёскивали мохнатыми лапами. Бабушка судорожно стискивала онемевшие пальцы в серебристо-каракулевой муфте.
«И чего им только надо было? – беззлобно удивлялась она через пятьдесят лет. – Ведь такие богатые были! Богатые и злые…»
А поезд, пыхтя, мчал дальше на восток, на кровавую полоску занимающейся зари, потому что жизнь и тогда была «как дальний путь, непоправима и глубока, как рана ножевая». Это не так давно написал московско-канадский поэт Бахыт Кенжеев, полуказах, полурусский, как мои двоюродные братья Толик и Славка. Бахыту, в отличие от меня, в своё время хватило баллов на химфак МГУ, который он с успехом и окончил. Несмотря на это, он, как и я, давно уже бывший химик. И по иронии судьбы – тоже переводчик, только не в «Вестях», а в Международном валютном фонде. И поэт – милостью Божией.
А мой дед с бабушкой добрались до Читы, где пребывало тогда великое множество разноплемённого народа. Дед, говоривший на всех языках, к отчаянию бабушки, без конца приводил гостей. Однажды к ужину явилось чуть ли не тридцать человек пленных японцев. Все тридцать по очереди целовали бабушке руку, называя её «мадам». Сидя за столом, они вдруг одновременно, как по невидимой команде, вскакивали, издавали визгливый вскрик и разом сгибались в поклоне, точно срубленные по пояс.
Белочехи звали деда в Европу. Такой инженер, как он, был бы обеспечен на всю жизнь в любой стране – в Германии, Франции, Америке… В первый раз в жизни (и, возможно, в последний) дед не посоветовался с бабушкой, вежливо отказался, просто сказав: «Я – русский!» – и поехал назад, к большевикам. И опять химические заводы в Киеве, Николаеве, Одессе…
Дед часто менял города: на каждом заводе он очень быстро становился заместителем директора или главным технологом и любившие его рабочие выдвигали товарища Преображенского в депутаты, в партию, а ему надо было скрывать происхождение, что не всегда получалось. В Одессе, например, он помимо работы на заводе преподавал химию и иногда на лекции, забывшись, обращался к студентам: «Господа!»
– Господа все в Чёрном море, – спокойно поправляли с «Камчатки», и лекция продолжалась.
В тридцатые годы деда уже не выдвигали в депутаты, а посылали на пусконаладку советских химических заводов – в Воронеж, Череповец, Москву…
Перед самой войной дед даже ездил в составе делегации советских инженеров-химиков в Германию. Я узнала об этом от нашего старенького завкафедрой технологии нефтехимического синтеза Леонида Исааковича. Советских специалистов торжественно встречали на вокзале – несколько машин, на каждой по два флажка: красный советский и фашистский со свастикой.
Мой дед и совсем молоденький тогда Леонид Исаакович переглянулись, дед было ступил вперёд, но Леонид Исаакович удержал его за локоть:
– Простите, Сергей Николаевич, но это должен сделать я. Ich… wir werden in diesem Wagen nicht fahren!1
– А что такое? – удивились фашисты. – Ах, это… – небрежный кивок в сторону флажка со свастикой. – Так мы уберём!
Дед умер в шестьдесят втором. Мне не было и трёх лет, и я, конечно, совсем не помню его. Запомнила только голос, даже не сам голос, а необыкновенно добрые, мягкие, я бы сказала, типично «интеллигентские» интонации: «Соня, Олечка, идите скорей…»
Соня – это моя бабушка София Никитична, папина мама. Она пережила деда на четыре года, и я хорошо её помню. Бабушка очень вкусно готовила и читала французские романы в тяжёлых «мраморных» переплётах, напоминавших мне шкуру анаконд и питонов – этих змей я часами рассматривала в таком же дореволюционном Бреме. Бабушкины книги до сих пор лежат на даче. В нашей семье по-французски больше никто не читает.
6
Второй мой дед, Фёдор Михайлович, мамин отец, был врачом. Он родился в волжском городе Николаевске. Теперь это город Пугачёв Самарской области, а когда-то Николаевск относился к Астраханской губернии. Семья была чиновничья, служили из поколения в поколение по почтовому ведомству, сопровождая вагоны с почтой по железной дороге. Родители Фёдора Михайловича рано умерли (холера, что ли), и воспитывал его дед, в молодости бывший по семейной традиции почтовым железнодорожным ямщиком, а потом дослужившийся до почтмейстера.
– Елена Фёдоровна, так вы дворянка? – несколько иронически интересовался Игорь.
– Боже упаси! – почему-то обижалась мама. – Папа был из разночинцев, наши предки – ссыльные поляки.
Он был ровесником века. «Изображенный на сей карточкъ Федоръ Михайловiчъ Яновскiй в 1917 году окончилъ курсъ Слободо-Николаевской мужской гимназiи…» – написано «дореволюционным» каллиграфическим почерком на твёрдой фотографии с сургучной печатью. С карточки смотрит мой юный дед – в толстовке с ремешком, с юношески припухлыми губами, упрямой линией подбородка и дыбом стоящими густыми волосами. В семнадцатом году он поступил в Саратовский университет, где преподавал тогда философию Семён Людвигович Франк. Правда, мой дед поступил на медицинский. Тогда-то, в этом продуваемом азиатскими ветрами городе с жёлтыми песчаными отмелями на великой русской реке, ходили по одним и тем же улицам и набережным, не догадываясь о будущем своём родстве, два моих деда – семнадцатилетний студент-медик и тридцатилетний инженер. В девятнадцатом году они встретятся ещё раз на степном полустанке и через вагонные стёкла посмотрят друг другу в глаза – торопящийся за Колчаком на восток капитан царской армии и молоденький фельдшер, забранный со студенческой скамьи в Красную армию.
В Гражданскую дед заболел тифом и, наверное, умер бы, если бы не выходила его санитарка, моя будущая бабушка Надя. А потом дед опять учился, и стал врачом, и был направлен на работу в Сталинград, где родились дети, Женя и Лёля, а Надежда всё продолжала работать санитаркой. Она не оставила это поприще ни в тридцатые годы, нимало не смущаясь тем, что муж её главный хирург в той же больнице, ни после войны, когда сын Евгений учился в Астраханском музыкальном училище, а потом и в Саратовской консерватории. И только в шестьдесят девятом, когда Евгения пригласили преподавать в только что открывшуюся Астраханскую консерваторию, бабушка согласилась уйти на пенсию.
Дед Фёдор Михайлович погиб летом сорок второго. В полевой госпиталь, где он оперировал, влетела бомба. Прямо во время операции. Погибли все – хирург, медсестра и раненый под наркозом. Похоронка пришла вместе с последним письмом. «Женя, мы обязательно победим, – писал Фёдор Михайлович пятнадцатилетнему сыну, – а ты должен беречь маму и сестру. И обязательно учись, как бы ни было трудно, во что бы то ни стало…»
А потом бабушка Надя, дядя Женя и моя девятилетняя мама скитались под непрерывными бомбёжками по сталинградским и воронежским степям, стараясь не попасть на занятую немцами территорию. И не попали, только бабушку контузило и ранило осколком в ногу. И Женя учил сестру не пугаться, когда «мессер» зависает прямо над головой: это значит, что бомбы полетят мимо. А ещё он различал направление летящего снаряда по звуку, но не сумел научить этому Лёлю. Потом бабушка опять работала санитаркой, а дядя Женя – бухгалтером в совхозе и сдавал экстерном экзамены за десятилетку. В сорок пятом они поехали в Астрахань – потому что юг, помидоры, арбузы и, может быть, жизнь будет полегче… А главное, потому, что дети запомнили, как отец говорил: «Мы – Астраханской губернии…» И дядя Женя учился в музыкальном училище, а ночами грузил в порту плоские ящики с копчёной рыбой и картонные коробки с глинисто-серой ноздреватой халвой в вощёной промасленной бумаге. А по праздникам и на каникулах ездил с оркестром астраханской филармонии по просторным волжским деревням с развешанными на плетнях и шевелящимися от ветра сетями, по пыльным степным полустанкам, по дымным калмыцким и казахским аулам, привольно раскинувшимся под огромными внимательными звёздами…
У бабушки Нади было два класса образования. Она писала большими печатными буквами и ко всем праздникам присылала нам поздравительные открытки, всегда начинавшиеся одинаково: «Дарагие Геня, Лёля и Оличка!» Мама, кажется, немного стеснялась бабушкиной малограмотности.
– Толя! Славочка! – приставала она к моим двоюродным братьям, исправно приезжавшим к нам на каждые школьные, а потом и студенческие каникулы. – Почему вы не поможете бабушке? Она продиктует, а вы напишете…
– Да что вы, тётя Лёля! Она нас к этим письменам и близко не подпускает, говорит, ей самой важно…
А папа почему-то очень дорожил бабушкиными посланиями, складывал все открытки в специально заведённую для этого конфетную коробку с шишкинскими медведями и говорил дяде Ване:
– Посмотри, Иван, тёща пишет… Какой характер, какая судьба! Вот он – народ! Вот про кого надо фильмы снимать, а не про этих твоих академиков, режиссёров!
– Ну академики скорее твои, а не мои, – защищался дядя Ваня. – А режиссёры – тоже народ, и ты же знаешь, Гена, у нас госзаказ…
Зимой девяносто первого к нам приехал пятикурсник Славка. Привёз письмо от бабушки и деньги – двадцать пять рублей. Бабушка Надя просила окрестить Серёжку.
– Что же, она думает, мы денег не найдём на такое дело? – смущалась мама.
– Понимаете, тётя Лёля, бабушка просила именно эту четвертную отдать в церкви. Она из пенсии откладывала, говорит, ей это важно…
Да мы ведь со Славкой и Толиком тоже крещены по инициативе бабушки Нади. Первоклассника Серёжку окрестили, и он вдруг стал читать запоем – в кровати, за едой, в транспорте… До этого мама заставляла его читать и жаловалась, что «учить Серёженьку чтению – всё равно что дрессировать в джунглях большую, сильную обезьяну».
Игорь тоже принимал посильное участие в воспитании сына:
– Посмотри, Зелёный, сколько все читают! И мы с мамой, и бабушка, и дедушка! Каждый из нас прочитывает за год не меньше десяти книг.
– Не надо, папа! Сколько я тебя помню, ты всё одну и ту же книжку читаешь!
И действительно, Игорь без конца читает учебник по электротехнике для техникумов. Он на работе непрерывно и, кажется, не вполне успешно что-то такое конструирует.
Мы не препятствовали чтению за столом и в кровати – сами такие. Да и грех было отбирать чудесные книжки, которые читал Серёжка в первом классе, – «Тома Сойера», «Робинзона Крузо», «Таинственный остров»…
Бабушка Надя умерла через полгода после крещения правнука. Ей было восемьдесят девять лет. Мы ездили в Астрахань на похороны. Мама всё плакала и жалась к дяде Жене, а он, высокий, худой, с длинными костлявыми пальцами, бережно поддерживал её под руку или обнимал за плечи, сутулясь ещё сильнее, и, как старый орёл, угрюмо вскидывал из-под косматых седых бровей сухие цепкие глаза.
На другой день братья водили меня по астраханским набережным, ровный тёплый ветер мёл мягкую пыль, и я пыталась представить, как в такое же бодрое южное лето почти сорок лет назад по этой самой набережной гуляли, взявшись под руки и беспрерывно хохоча, три студентки. А вот на этом мостике девушки познакомились с аспирантом из Москвы, приехавшим изучать флору волжской дельты. Молодой человек был в тёмно-синем шевиотовом костюме с подбитыми ватой плечами и с ромбом в петлице. И самая невысокая из девушек, поправляя развевающийся белый крепдешиновый шарф и блестя миндалевидными золотисто-карими глазками над круглыми твёрдыми щеками, кокетливо говорила:
– А вы знаете, Геннадий, брат Лёли тоже аспирант, только он в Саратовской консерватории учится, будущий композитор…
Через несколько лет эта девушка выйдет замуж за брата Лёли и станет моей тётей Данатой, мамой Толика и Славки.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе