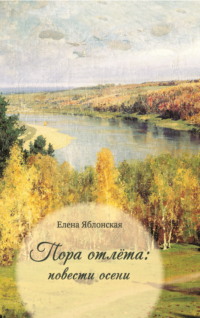Читать книгу: «Пора отлёта: повести осени», страница 2
Я и ездила каждую субботу независимо от погоды, ходила по любимой Маросейке, теперь заставленной машинами, а тогда совершенно пустой улице Богдана Хмельницкого, где, кстати, был целый фирменный магазин «Пуговицы», и твердила про себя, как молитву:
Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползёшь и как дымишься,
Растёшь и строишься, Москва…
В Москву приходилось ездить и по работе, мы постоянно вели совместные исследования с московским филиалом нашего института. Маршруток не было, как, впрочем, не было и пробок, но всё равно приходилось по полтора часа тащиться со всеми остановками по совершенно пустой дороге в рейсовом автобусе, называемом «скотовозом». Взять билет на экспресс было почти невозможно, да и разница в стоимости была ощутимая – тридцать семь копеек, обед в институтской столовой.
На «скотовозах» запросто ездили и иностранцы, частенько приезжавшие в институт «по обмену». Лев Яковлич как-то принялся рассказывать про злоключения на московском автовокзале гостившего у нас доктора фон Хауффе.
– Он встал в очередь на автобус. Автобус подошёл, все, конечно, бросились без очереди, автобус ушёл, он остался… – бубнил Профессор. – Образовалась новая очередь. Когда подошёл второй автобус, все опять бросились… Он в третий раз встал в очередь…
– Да что вы нам-то рассказываете, Лев Яковлич? – не выдержал Дедович. – Будто мы не ездим на этих автобусах…
– А я потому именно вам, Виктор, это рассказываю, – вдруг взбеленился шеф, – что это именно вы ездите на этих автобусах! И мне стыдно за вас! Дитрих говорит: «Я понимаю, что штурм автобуса есть ваш национальный спорт, но зачем же они в очередь становятся?!»
Можно подумать, Лев Яковлич сам никогда не ездил на «этих автобусах»! Праведный его гнев, судя по всему, подкреплялся в значительной степени тем, что не далее как позавчера, сама видела, шеф гнался за увозившим меня «скотовозом» и, не догнав, даже грозил вослед беретом, сорванным с лысой головы. Лысина Яковлича обрамлена жёсткими седоватыми кудряшками, отчего доктор химических наук и лауреат Государственной премии выглядел этаким разгневанным фавном в сбитом набекрень жиденьком лавровом веночке.
5
А сейчас мы стоим в пробке на полпути к Москве, и я мучусь вопросом: Эдька или не Эдька сидит напротив меня в маршрутке? Конечно, я сильно изменилась, но мой голос Эдька узнал бы сразу. Надо позвонить. Кому? На работе ещё никого нет. Мужу?
– Андрей! Андрей! Ты слышишь? Это я, Наташа! Ты слышишь? На-та-ша!
– Понял. Чего тебе? – Андрей терпеть не может, когда его беспокоят на работе.
– Андрей! Мы тут в пробке стоим…
Андрей бросил трубку, а «он» и ухом не повёл. Наверное, это не он – Эдька не мог забыть мой голос.
– Наташка, когда ты поёшь, я чувствую себя русским, – говорил он.
– А ты и есть русский, – обязательно отвечал ему кто-нибудь из наших: Фаридик – весело, Гюля – ласково, Ашот – значительно, подняв вверх указательный палец, Тамарка – застенчиво, а Аркадий – как всегда, очень серьёзно. А Володька Ким, если не обретался в Голландии, обязательно запевал или декламировал «кимовское» же: «А я простой советский полукровка и должен убираться в свой Пхеньян!»
Мы, кстати, так и не узнали, был ли Кимыч в самом деле полукровкой или стопроцентным корейцем. Нас это совершенно не интересовало, потому что…
– Да Владимир больше русский, чем мы все тут вместе взятые! – сказал в сердцах Анатолий Степаныч Игорю Валерьевичу.
Они о чём-то спорили в курилке на лестничной клетке, ожесточённо тыча окурки в края металлической урны, а я поднималась по лестнице, и на моё «здрасьте» добрый Степаныч вдруг окинул меня совершенно несвойственным ему хищным взором. Вскоре всё объяснилось. Наши партийные деятели обсуждали кандидатуры молодых сотрудников для приёма в партию. Володька Ким, впрочем, не подходил им не по национальному, а по половому признаку – по разнарядке требовалась «женщина комсомольского возраста». На меня насели.
– Вы, конечно, думаете, что в партии одни проходимцы и карьеристы, – обиженно говорил Академик.
Нет, я так не думала. Коммунистами были наши отцы. Не знаю, как Фёдор Оттович, а Константин Герасимович и мой папа вступили в партию, уже сделав карьеру. Да и что плохого, если партия поможет человеку занять достойное место? Вот если бы туда взяли моего Андрея! Вечно у него эксперимент не идёт, «крокодил не ловится», а шеф без конца меняет тему диссертации! А я и без партии защищаюсь через полгода. Наверное, женщины там тоже нужны. В партию вступила в сорок восемь лет на пике своей карьеры – преподавателя техникума – мамина подруга тётя Лиля.
– Лилька?! В партию? Вот старая ведьма! – с одобрением говорил папа.
На вопросы приятельниц «зачем» тётя Лиля обыкновенно отвечала:
– Должны же быть и в партии хорошие люди!
Кроме папы и тёти Лили в партии были и другие хорошие люди – наш Ашот, например, или Анатолий Степаныч, отличный, между прочим, мужик. Да и сам академик Александр Николаевич, про которого японский профессор Танака сказал мне в девяносто втором году на международном симпозиуме по катализу: «Sincere communist!» – «Искренний коммунист!» Нет, я ничего не имела против партии. Но сидеть после работы на партсобрании, когда дома, как волк в клетке, мечется из угла в угол несчастный Андрей, опять запоровший эксперимент или поругавшийся с шефом, а наш единственный стол завален грязной посудой… Да даже если у Андрея всё относительно благополучно, как слушать «унизительную болтовню» Игоря Валерьевича, когда столько интересного вокруг, надо успеть прочитать все выписываемые сообща журналы – «Новый мир», «Москву», «Знамя», «Наш современник»… Всеобщий журнальный бум начался позже, с восемьдесят девятого – девяностого, и мы очень гордились, что так предвосхитили ситуацию. Так что от вступления в партию я, что называется, «отползла».
Неожиданно оказалось, что в партию хочет… Нонка.
– Тебе-то это зачем? – изумлялись мы.
– Надо занимать активную жизненную позицию, – Нонка непримиримо сверкала очками, – и брать от жизни всё!
Проще говоря, Нонка, по выражению прямолинейного Дедовича, рассчитывала найти мужа среди «партийных членов». И представьте, скоро нашла! Миша, математик. Кажется, неплохой парень.
– Карьерист! Семья карьеристов! – фыркал Эдька.
– А ты разве не карьерист?
– Я – как Лев Яковлич! Только через науку!
Да, Эдька был химик, и только химик, и ещё раз химик. Химик от Бога.
Бывало, суёт мне под нос бюкс со сверкающими белоснежными кристаллами:
– Ты посмотри, какой компаунд! Стопроцентная чистота!
– Ну и зачем нам такая чистота? – отмахиваюсь я, а через полчаса взываю: – Эдь, ну почему оно? Я же всё по прописи делала…
– В осадок выпал? С кем не бывает, – ангел-хранитель принимает от меня злополучную колбу, внимательно вглядывается в содержимое «на просвет» и как бы невзначай легонько побалтывает.
Осадок чудесным образом растворяется, и после соответствующих манипуляций «по прописи» и мой компаунд выделен, как говаривал шеф, в «товарном виде» и с вполне приличным выходом.
Конечно, мы с Гюльшен эксплуатировали Эдьку в хвост и в гриву. До сих пор стыдно. Гюля – та хоть закармливала его домашней выпечкой, а я даже посуду мыла не очень, знаете… То есть вполне нормально, но Эдька для своих синтезов и посуду требовал сверхъестественной чистоты. Даже Лев Яковлич удивлялся, глядя, какой безукоризненно ровной плёночкой стекает дистиллят по дну вымытой Эдькой колбы.
Постепенно выработалась практика, когда Эдька в ответ на мои бесконечные просьбы требовательно говорил:
– А что мне за это будет?
Я как-то отшучивалась, а однажды, когда всё валилось из рук, устало ляпнула:
– Да всё что угодно!
Вертевшийся рядом Фарид сказал «О!», Эдька почему-то пунцово покраснел, а Лев Яковлич, шурша бумагами, поспешно вылез из-за заваленного статьями письменного стола:
– Что там у вас? Термопара? Я сделаю… Позвольте, Эдвин…
Впрочем, скоро Эдька как ни в чём не бывало снова говорил «А что мне за это будет?», а на моё «Всё что угодно!» очень кокетливо отвечал: «Этого мало!» А там и Профессор, обсуждая со мной новый сложный синтез, выражался в том духе, что «на этой стадии вам Эдвин поможет, как вы говорите… гм… за всё что угодно».
Вообще-то, так получилось, что в нашей лаборатории каждый сотрудник нёс определённую «общественную» нагрузку, которая была по плечу только данному конкретному лицу. И по общему сочувственному признанию самая тяжкая ноша досталась Гюле.
6
В Академгородке в те годы почему-то принимал турецкий канал, показывавший бесконечные «мыльные оперы», а на отечественном телевидении тогда присутствовало, если помните, только латиноамериканское «мыло», причём в количествах весьма умеренных.
Гюлыпен нечаянно проговорилась нашей хозлаборантке Клавдии Петровне, что она прекрасно понимает турецкий. С тех пор едва ли не каждый день в дверь нашей комнаты просовывалась голова Клавдии в бараньих завитках «химии»:
– Гюлечка, ты, кажется, толуол заказывала? Так я получила…
– Я не заказывала, – с отвращением говорила Гюля, но голова Петровны исчезала.
Это означало, что в комнате Клавдии собрались попить чайку её товарки, хозлаборантки из других отделов и складов, и Гюлю заманивают, чтобы прослушать перевод вчерашней серии.
– Ступайте, Польшей Газиевна! – цедил сквозь зубы Ашот.
– Почему я должна тратить на это жизнь?! – возмущалась Гюля. – Ведь он и дома заставляет меня смотреть эту гадость! Правда, – Гюлин голос немного теплел, – готовит сам и за мальчишками смотрит…
– Надо же бить милосэрдной! – Ашот вдруг становился необыкновенно многоречивым, бросал отвёртку и воздевал руки к потолку. – У этих женыцинь больше ничего нет в жизни!
– Но у меня эксперимент! Лев Яковлевич!
– Как заведующий лабораторией не возражаю, – кротко говорил Профессор. – В самом деле, Польшей, почему бы вам не получить толуол? А за вашим синтезом… Мне на совет… Эдвин, посмотрите?
– Конечно! – бодро отзывался Эдька – и Гюле, тихонько, чтобы не услышал Ашот: – Ничего, мать! Скоро на панель пойдёшь за реактивы.
А Лев Яковлевич услышал и посмотрел укоризненно.
Наши руководители лукавили. Клавдия Петровна и её подружки вряд ли нуждались в милосердии. Просто Ашот с одобрения Льва Яковлевича проводил хитроумную политику в отношении хозяйственных служб. А то ведь реактивов не допросишься! Сколько синтезов было запорото из-за того, что не хватило растворителя, а Петровне хоть кол на голове теши: «Нету у меня! Ты не заказывала!»
А в результате Гюлиных мучений у нас не только растворители всегда были, но даже ещё более дефицитная бумага для писания статей и отчётов. Да что Петровна! Аркадий рассказывал, что старший научный сотрудник из его лаборатории, почтенная дама, имевшая в жизни всё и даже больше, а именно: мужа-завлаба, работу, степень кандидата физматнаук, шикарную пятикомнатную квартиру в элитном «завлабовском» доме, дачу, машину, двух взрослых благополучных детей и даже маленькую внучку… Так вот, эта особа, сидя над расчётами, частенько мечтательно закатывала глаза: «Девочки, давайте поговорим о „Просто Марии“…» После этого начинались разговоры «такого уровня», жаловался Аркадий, что он предпочитал уходить в библиотеку.
Конечно, Гюльшен было невыносимо противно смотреть и пересказывать «эту гадость». Мы с ней, Тамаркой и Галиной Ковальчук, женой Анатолия Степаныча, зачитывались стихами Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Тарковского, добытыми у московских знакомых и тщательно переписанными в тетрадочки ещё в студенческие годы. Я очень гордилась тем, что во время вступительных экзаменов в аспирантуру «открыла», найдя в библиотеке, и переписала почти всю тоненькую книжку Иннокентия Анненского.
– Учи лучше! А вдруг не поступишь? Хотя я тебя понимаю… – пугалась Тамарка, а потом радовалась: и я поступила, и Анненский был всё время при нас.
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка…
От неё даже дыму
Не уйти в облака.
Эта резанностъ линий,
Этот грузный полёт,
Этот нищенски синий
И заплаканный лёд!
Я частенько читала эти стихи Эдьке зимними вечерами, когда мы оставались одни в лаборатории за многостадийным синтезом или томительно долгой хроматографической очисткой, сидя на высоких табуретах каждый под своей «тягой». Чаепития в нашей лаборатории, несмотря на усилия Гюли, почему-то так и не привились. Фарид уходил пить чай к аналитикам в комнату напротив, оттуда доносились взрывы хохота. Витя Дедович в кабинете Академика учил Светлану Иванну управляться с новым, только что полученным «двести восемьдесят шестым» компьютером. В мягкой, как бы обложенной ватой тишине вдруг раздавались странные звуки, похожие на уханье филина или крик какой-нибудь неизвестной науке ночной птицы… «Это Светлана Иванна хохочет», – объясняли мы испуганным новичкам-дипломникам. А за высокими окнами лаборатории плавными новогодними хлопьями падал и падал торжественный снег… Полюбил бы я зиму…
– Как это – «обуза тяжка»? – не понимал Эдька.
– Ну, понимаешь, ты и хотел бы полюбить женщину, но чувствуешь, что трудно будет, тяжело…
– Понял, – быстро сказал Эдька.
А вот я, наверное, поняла его только сейчас.
Из прозы мы читали-перечитывали и обсуждали Чехова, Лескова, Толстого… Помню, мне очень не хватало «подписного» синего с золотом восьмитомника Чехова, оставшегося в родительском доме. В девяносто первом я купила с рук точно такое же собрание сочинений тысяча девятьсот семидесятого года издания – около книжного магазина на «Калужской» у старушки с интеллигентным лицом и заскорузлыми красными руками. А ещё раньше, в восемьдесят седьмом, я чудесным образом стала обладательницей четырёхтомника Юрия Трифонова. Такой болотного цвета, знаете? Мы с девчонками его потом до дыр зачитали, а начиналось всё в мае восемьдесят седьмого года в Будапеште.
Я там была на международном семинаре по фотохимии. Боря Малковский из московского института привёл меня в русский книжный магазин. Я сразу цапнула Аполлинера – издательство «Книга», тысяча девятьсот восемьдесят пятый год, потом «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» – «Художественная литература», тысяча девятьсот восемьдесят шестой. И вдруг увидела: Юрий Трифонов, первый том. А где же остальные?
– Скоро будут, второй том – недельки через две, – объяснила продавщица. – Можно оформить подписку.
Но я уезжаю через три дня!
– Плати, что-нибудь придумаем, – решил Боря.
Он оставался в Будапеште на следующую конференцию. Вскоре Боря привёз мне второй том. Третий том ещё через три месяца передала Ирина Седых из Томского университета. А четвёртый том получал в магазине и передавал в Москву «для ученицы Льва» по высоким академическим каналам сам Тивадар Дьярмати – академик Венгерской академии наук и однокурсник Льва Яковлевича. Выпуск химфака МГУ тысяча девятьсот пятьдесят шестого года!
В начале восемьдесят восьмого в канцелярию института поступил увесистый пакет без обратного адреса, почтовый штемпель смазан. На конверте размашисто – «Кандидату химических наук Н. А. Кондрацкой». Я пришла в ужас – кому я вдруг понадобилась в качестве кандидата наук? В конверте был изрядно потрёпанный журнал «Дружбы народов» – номер первый за тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год. Юрий Трифонов, неоконченный роман «Исчезновение». Я так и не узнала, кто его прислал, и даже Боря Малковский остался в числе подозреваемых. Мы ведь с ним больше не виделись – в том же восемьдесят восьмом году он уехал навсегда в Израиль. А «Исчезновение» с тех пор и поныне – моя любимая вещь у Трифонова. Тамара больше всего любила «Долгое прощание», Гюля – «Другую жизнь», а Галя Ковальчук, которая была постарше нас, – «Время и место». И только «Нетерпение» ни я, ни мои подруги не смогли тогда прочитать. Каждая бросала на третьей странице – там, где Андрей Желябов сжал в кулаке и сломал «железную немецкую игрушку, бородатого рождественского гнома», купленного для сына: «Они должны его возненавидеть». Прочитал весь роман только Анатолий Степаныч и говорил жене: «Какая трагедия!» Шёл восемьдесят девятый год…
7
Шла и наша… трагикомедия. По телевизору в «Новостях» многократно показали Нонкиного мужа Мишу Хапицкого, вдохновенно сражающегося с бабушками за сосиски в магазине «Диета», что на «Щёлковской». Потом, уже в «Вестях», в рубрике «Курс доллара», долго мелькал мой однокурсник Саша Кузин, талантливейший, все говорили, химик, ушедший работать в банк – «семью-то надо кормить». А в девяносто первом – нам с Андреем уже дали квартиру – я забрела за какой-то чепухой в единственный в Академгородке магазин хозтоваров. На крохотном кусочке свободного пространства рядом с кассой остолбенело стоял Анатолий Степаныч, посланный Галиной за стиральным порошком. Весь магазин занимала огромная, до потолка, гора розовотелых унитазов, напоминавшая пирамиду черепов на картине Верещагина «Апофеоз войны». Ничего больше в «Хозтоварах» не было. Мы со Степанычем, как две деревенские лошади, попавшие в большой магазин, долго дивились на это «воинственное великолепие».
На одном из розовеющих «черепов» висела бумажка с такой умопомрачительной ценой, что я робко предположила:
– Это, наверно, за всю кучу?
– Похоже, что за один, – мрачно сказал Толя, всматриваясь в «Апофеоз». – Пошли отсюда! Мы чужие на этом празднике жизни.
Да что это я… «В те дни, а вы их видели и помните в какие…» Лучше вспоминать о том баснословном восемьдесят шестом, когда казалось, что всё ещё впереди и теперь-то всё будет по-другому.
Мы с Эдькой защищались в один день. Мы – до обеда, а после обеда – Игорь Валерьевич, докторскую. Лев Яковлевич тщательно проследил, чтобы казённые фразы в наших введениях не совпадали, кое-что заставил исправить, и мы очень гордились проделанной литературной работой.
И вдруг Игорь Валерьевич с пафосом сообщает:
– Одним из интереснейших путей утилизации солнечной энергии является преобразование её в химическую в искусственных системах, действие которых основано на принципе природного фотосинтеза.
Это слово в слово из Эдькиного введения.
А дальше слово в слово из моего:
– Моделирование процесса фотосинтеза может привести не только к созданию систем, способных запасать энергию солнечного излучения в виде химических соединений, но и к более глубокому пониманию отдельных деталей этого природного процесса.
Я списывала введение у Фарида, Эдька – у Кимыча, Фарид – у Ашота. Но Ашот-то точно ни у кого не списывал! И при чём здесь Игорь Валерьевич?! Он вообще из другой лаборатории!
Мы недоумённо переглядывались, но Профессор слушал вполне безмятежно, а Фарид успокаивающе прошептал:
– У всех одни и те же заклинания…
Надо сказать, что защиты проходили у нас по-деловому. Банкеты устраивались только для своих, дома или в общежитии, потому что почти все члены учёного совета после заседания спешно уезжали в Москву на специальном институтском автобусе. И поэтому настоящий фурор произвела в перерыве ворвавшаяся в зал целая стая девушек – сотрудниц библиотеки, канцелярии, архива… Вереща «Эдвин, поздравляем!», насовали Эдьке целую кучу разнокалиберных букетов.
– Сколько поклонниц у нашего Эдвина! – задумчиво молвил Лев Яковлевич и посмотрел на меня с некоторым упрёком.
Он не знал про Андрея. А Эдька, сосредоточенно перетасовав букеты, на вытянутых руках, как младенца, вручил все цветы мне.
– Но твои дамочки обидятся!
– Это не дамочки.
– Кто скажет, что они не дамочки…
– Наташка, прекрати! Я тебя поздравляю!
Я была уже почти уверена, что это Эдька сидит напротив меня в маршрутке. Конечно, он сразу узнал меня, а теперь просто делает вид, что не узнаёт, – характер-то «нордический»! Он хочет разыграть меня, чтобы в ответ на мой лепет: «Молодой человек, вас не Эдвином зовут?..» – закричать: «Наташка, ты что?! Это же я!»
А тогда, в восемьдесят шестом, я таки донесла свой зуб мудрости до врача – через две недели после защиты и за неделю до свадьбы. Андрей заявил, что отказывается жить с моим зубом.
Боль была адская. Наверное, «заморозка» не подействовала. Я орала дурным голосом и дрыгала ногами, завалившись на спину в стоматологическом кресле.
– Ну-ну, потерпим, зубик немножко сложный, восьмёрочка… – бормотал сероглазый горбоносый доктор с огромными ручищами, поросшими рыжей шерстью.
Наконец «виновник торжества» был мне предъявлен. Положительно, это рогатое чудовище не могло поместиться у меня во рту! Медсестра отвела меня на кушетку.
– Следующий! – провозгласил доктор.
Дверь робко открылась, и на пороге предстал белый, как полотно, Ашот.
– У вас талон на десять тридцать? – осведомилась медсестра.
– Нет… Я пьятый биль, они все ушли… Наташшя, вы так кричали…
– Ну вот, всех больных мне распугала, – проворчал доктор и, склонившись над Ашотом, вдруг ласково закурлыкал на совершенно непонятном языке, причём были явственно различимы слова «новокаин» и «аллергия»!
Я так удивилась, что даже перестала ощупывать языком свой зуб, вернее, дырку в десне, заткнутую ватой.
– Ну надо же! – вдруг радостно завопил доктор, разворачиваясь ко мне. – Точно такая же восьмёрка! Внизу слева! И анатомия точно такая же!
Вот радость-то! Тьфу!
К карману докторского халата была прицеплена ранее ускользнувшая от моего внимания карточка: «Стоматолог-хирург Маркарянц Алексей Артурович».
– А почему наш доктор совсем без акцента говорит? – спросила я Ашота, когда мы брели из поликлиники по усыпанным жёлтой листвой дорожкам Академгородка.
– Он ростовский, – ответил Ашот и, потрогав щёку, добавил: – Отличный спецьялист…
Ашот рассказал, что когда-то все армянские фамилии оканчивались на «янц», но часть армян уехала – я забыла куда и почему – в Армении прошла реформа, букву «ц» убрали, а вернувшиеся так и остались Маркарянцами, Кнуньянцами… Ашот знал всё на свете, и не только про Армению, а я, к сожалению, не очень внимательно слушала. Не потому, что мне было неинтересно. Просто меня уже тогда тянуло на экзотику, а история Армении была такой же своей, привычной, навсегда родной, как русские буквы «ш» и «щ», пришедшие к нам, по словам Ашота, из древнего армянского алфавита… Как пышущие жаром пейзажи Сарьяна в Третьяковке… Как эти левитановские берёзы, что сейчас так привычно и щедро сыплют и сыплют золото нам под ноги…
8
Кстати, мы довольно поздно сообразили, что наша лаборатория являет собой идеальный интернациональный коллектив, в котором ни одна национальность не повторяется. Посудите сами: Ашот – армянин, Лев Яковлевич – еврей, Эдька – немец, Фарид – татарин, Гюля – азербайджанка, Витя Дедович – белорус, Володька Ким – кореец. Да ещё я – Наташа Кондрацкая. А если прибавить наших друзей и постоянных «пришельцев» Тамарку Фераниди да Аркадия Раймовича Пельтонена – финна из Петрозаводска… Будто нас нарочно подбирали! «Не нарочно, но и не случайно, потому что нет ничего случайного», – скажет мне впоследствии Тамара, ставшая через много лет моей крёстной. А тогда мы это осознали тоже, хочется сказать, «случайно», исключительно благодаря Дедовичу.
Мы и не знали, что Витька белорус. Выяснилось это на комсомольско-молодёжном методологическом семинаре после доклада Дедовича на тему национальных отношений в Советском Союзе. Ну да, Дед ведь из Гомеля.
Семинар наш, руководимый Ашотом, был весьма примечательным явлением. «Клуб тайных диссидентов», – отзывался о нём парторг Анатолий Степаныч, усмехаясь в казацкие усы. В частных беседах, разумеется. Что мы только там не обсуждали! Помню, на меня невероятное впечатление произвёл доклад Миши Хапицкого. Тему не помню, что-то про экономику. Суть же доклада заключалась в том, что теперь, по мнению Миши, наступили качественно иные времена, когда не только из экономических, но и из самых высоких философских соображений выгодно не быть богатым, а напротив – иметь долги! Чем больше, тем выгоднее! Я-то всегда стеснялась просить в долг. Казалось, вот возьму у человека, а ему завтра не хватит на что-нибудь важное. Лучше уж перебьюсь, не голодаем же. И наоборот, радовалась, если кто-то просил у меня и было что одолжить. Не потому, что я такая уж альтруистка. Меня грела мысль, что, если у меня бывают иногда свободные деньги, значит, я не такая уж не умеющая жить дурёха, как считали моя мама и свекровь. А оказывается…
Безусловно, Миша был прав. По его примеру и мы с Андреем взяли в институте кредит на полторы тысячи рублей. Кредиты, выдаваемые всем молодым семьям, полагалось погасить из зарплаты в течение нескольких лет. На эти деньги мы отремонтировали квартиру, купили кое-какую мебель… И вдруг моя зарплата стала почти тысяча рублей в месяц! Вот и весь долг.
Да и вообще на семинарах было интересно. Одна беда – проходили они поздно, после работы, и я частенько на них засыпала. Задрёмывала, как лошадь в стойле, особенно когда родился Костька и мы с Андреем работали «в смену», то есть я с восьми утра до трёх без обеда, а он с трёх… уж не знаю до скольких! Когда он приходил, мы с Костькой спали как убитые. Правда, говорят, что все мужики тогда на работе ночи напролёт играли на компьютерах. Ну, неважно. Главное, что в дни семинаров мне удавалось выторговать себе вечернюю смену. Умоляла Тамарку или Эдьку будить меня, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Тамара добросовестно толкала меня локтем в бок, а Эдька не будил никогда.
Когда ребята поднимали крик, я просыпалась сама и шипела:
– Что, что он сказал? Кто, Кимыч сказал? А Дед что?
Эдька досадливо отмахивался:
– Шла бы ты домой, мать!
Крик поднимался часто. На семинар ходили не только комсомольцы и вовсе даже не молодёжь. Беспартийный Лев Яковлевич, например. Галя Ковальчук. Светлана Иванна, давно выросшая, как вы понимаете, из комсомола. Иногда заглядывала Цветана Георгиевна. Завлабов и женщин ребята, конечно, не трогали. Зато как-то принялись изгонять Володьку Кима, как вышедшего из комсомольского возраста.
– А чего вы тогда Ахмеджанова держите? – обиженно заорал Кимыч, выбрасывая по-каратистски руку в сторону Фарида. – Он меня на год старше, я знаю!
Все загалдели. Фаридик втягивал голову в плечи.
– Но ведь это замечательно, что не только молодёжь… и даже беспартийные… Вот и я, например… Как вы считаете, Ашот? – обеспокоенно нашёптывал сидевший неподалёку от меня Лев Яковлич.
Ашот кивал, но помалкивал. Покричали, похохотали и оставили и Кимыча, и Фаридиуса.
Витя Дедович рассказал об ужасающей демографической ситуации в Белоруссии. Рождаемость низкая, белорусы исчезают, ассимилируются. Доклад его не вызвал сочувствия. Ахмеджанов, выступавший в прениях, без особой грусти заметил, что да, русская культура, как более сильная, поглощает национальные культуры и он, Фарид, живя в родной Бугульме, класса до восьмого был убеждён, что «самовар» – исконно татарское слово. Под сильным впечатлением была почему-то только Светлана Иванна.
– Ну и пусть едет к себе в Гомель и размножается, – возмущалась она после семинара. – Мы-то здесь чем можем помочь?!
Светлана была коренная, подмосковная. Чувствовала ли она, что скоро именно ей придётся «помочь» Деду в деле размножения? Через полгода после того приснопамятного семинара Витька отбил Светлану Иванну, бывшую старше его минимум на десять лет, у мужа-грузина, с которым у неё было четверо детей! Это произвело такой шок, что потом в течение целого года институтская общественность ничего не могла сказать по этому поводу. Они только разводили руками, пучили глаза и беззвучно разевали рты, как рыбы, вытащенные из воды. А когда родился Алесь Дедович, все вдруг сразу с облегчением заговорили, что оно, пожалуй, и к лучшему, потому что Светлана с Вахтангом жили не то чтобы плохо, а как-то… странно. В самом деле, Вахтанг вечно пропадал неизвестно где, хотя его рабочее место, как теоретика, было дома, Светлана Иванна до поздней ночи ухала филином в кабинете Академика, а разнополые и разновозрастные дети воспитывали друг друга.
Вот характерный эпизод из жизни этой семьи, рассказанный Анатолием Степанычем.
Ковальчуки жили в одном подъезде с Вахтангом и Светланой. И вот как-то июньским вечером Толя, возвращаясь с работы, обнаружил беременную четвёртым ребёночком Светлану и троих старших детей на лавочке у подъезда. Оказывается, они забыли ключ и ждут папу, который неизвестно где.
– У тебя дверь на балкон открыта? – спросил Степаныч, решив залезть на балкон, выходивший на другую сторону дома, и открыть дверь изнутри.
Толя благополучно влез на второй этаж по раскидистой яблоне и вступил в комнату, казавшуюся огромной и таинственной в летних сумерках. Он прошёл в прихожую, повернул колёсико замка и, услышав храп из другой комнаты, заглянул туда. На диване спали двое, пахло спиртным. Добропорядочный семьянин и верный муж, влюблённый в свою Галину с первого курса и по сей день, Степаныч каялся, что его первой невольной мыслью было: «Вот молодец Вахтанг! Беременная жена с детьми под дверью сидит, а он тут с какой-то бабой…» Однако в следующее мгновение Толю прошиб холодный пот – он понял, что ошибся и залез в другую квартиру. Сейчас они проснутся – парторг института, забравшийся в чужой дом через балкон…
Степаныч не рискнул выйти через дверь – вдруг хлопнет, выбрался на улицу тем же путём, каким проник, и злобно сказал подошедшему Вахтангу:
– Пойди позвони соседям – пусть дверь закроют.
После развода не выдержавший срама Вахтанг уехал из Академгородка навсегда. Но не к родителям в Тбилиси, как можно было ожидать, а в Сыктывкар. Научный центр Коми АССР славился сильной математической школой. Его отъезд вызвал к жизни другой анекдот-быль, принесённый с учёного совета Львом Яковлевичем.
Аспирант Вахтанга отчитывается о проделанной работе.
– Так, очень хорошо! А где ваш научный руководитель?
– Он уехал. В Сыктывкар.
Отчитывается аспирант Гриши Маргулиса.
– А где ваш научный руководитель?
– Он уехал… но не в Сыктывкар!
Бедный Лев Яковлевич! Через несколько лет наш Профессор тоже уедет «не в Сыктывкар». Он страшно не хотел уезжать, уговорила дочь, Елена Львовна. Ещё меньше была готова к отъезду Эсфирь Самойловна.
– Моя родина здесь, – говорила, сжимая сухонький кулачок, учительница химии, подготовившая для Академгородка несколько поколений учёных, – но ничего не поделаешь, время идёт, Земля вертится… Надо ехать… Ради будущего Яшеньки…
Кулачок разжимался, и рука, кажется, смахивала слезинку – Эсфирь Самойловна быстро отворачивалась.
К сожалению, Эсфирь Самойловна не успела научить химии ни моего Костьку, ни мальчишек Ашота и Гюли. А учила она удивительно! Галя Ковальчук рассказывала, как восьмиклассник Антон, придя из школы, учинил допрос родителям.
– Мама! Папа! Вот скажите, есть ли в истории личность, которой вы восхищаетесь?
Дело было в ноябре девяносто третьего, и Степаныч ретировался от греха на балкон – покурить. Антон принялся обличать мать.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе