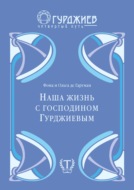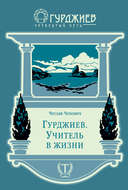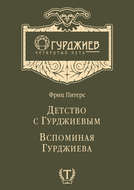Читать книгу: «Гурджиев. Учитель в жизни», страница 4
«Это верно, они действительно кажутся разными, но их фундаментальная природа – одна. Если вы хотите понять, почему они внешне различны, вам может помочь метафора.
Представьте себе, что нескольким людям показывают кролика и каждого просят написать его описание так, чтобы можно было безошибочно определить, что это за животное, с единственным условием – не использовать слово «кролик». Люди начинают писать, но вместо того, чтобы дать им три часа, – скажем, такое время необходимо для завершения их описаний, – листы соберут уже через двадцать минут. Если все эти описания прочитать аудитории, не знакомой со способом их написания, ей будет трудно понять, что она слушает описание одного и того же животного. Практически наверняка не найдется двух слушателей, представивших одно и то же – кролика. Один может увидеть кенгуру, другой крысу, третий зайца, еще один может увидеть мула или осла, или даже собаку, – все будет зависеть от того, как будет начинаться каждое описание. Один автор может начать с того, что это позвоночное, и тогда слушателям для выбора предстанут все позвоночные животные в мире. Другой начнет с того, что это грызун, и тогда выбрать можно будет любого грызуна. Третий начнет описывать цвет животного или его размеры. Следующий скажет, что это теплокровное животное, или будет говорить, чем оно питается, в то время как еще один вспомнит, как оно кричит, какие у него лапы, как оно передвигается, как осматривается или даже как взаимодействует с людьми. Короче говоря, каждый начнет свое описание с той стороны, которую ему легче всего описать, и таким образом слушатель увидит в каждом описании другое животное.
Неосведомленный человек оказывается точно в такой же ситуации, сталкиваясь с учениями, которые передают основатели того, что вы называете различными «религиями». Вы все говорите сейчас так, будто услышали лишь начало описаний, где они представляются наиболее различными. Но за определенным пределом все религии сходятся и образуют одну единую Религию».
Тогда один из нас произнес: «Я думаю, что понимаю вас, Георгий Иванович, когда вы говорите о сектах и даете нам метафору с кроликом, но великие религии, которые упомянул наш друг, существуют как единое целое. Это не начало описания. Каждая представлена как одно целое, хотя они кажутся весьма различными».
«Различие только внешнее, – ответил Гурджиев, – и противоречия происходят из-за различных факторов. Те, кто судят о религии таким образом, не проникли в суть учения, и их суждения обречены быть поверхностными. Религии на самом деле похожи на математику: есть элементарная часть, наиболее общедоступная, которая предлагается массам, и эта элементарная часть различна у каждой религии. Это потому, что мессия или посланник свыше появляется среди людей, отличающихся по языку, философским взглядам, характеру, основному складу ума и многим другим преходящим аспектам, и они должны приспособиться к современности и выбрать соответствующий способ выполнения своей задачи.
Вы уже поняли – не так ли? – одну важную вещь: человек не един. В нем существует множество непрерывно проявляющихся импульсов и побуждений».
Мы закивали головами, признавая эту истину, которую большинство из нас к этому времени уже осознали.
«И, – продолжал Гурджиев, – если посланник выберет отправной точкой владение телом, то он будет упирать на то, что мы называем «путем факира». Если мессия посчитает, что его задача будет выполнена с помощью чувств, то мы увидим развитие «пути монаха». Используя христианский язык, если учитель уповает на божественные импульсы любви или милосердия, то путь будет состоять из определенной работы, что в самой совершенной и высокой форме будет уникальным учением Христа. Если, с другой стороны из-за существующей культуры он решит, что разум – интеллектуальная функция – сможет привнести в жизнь истинные идеи, это приведет к так называемому «пути йога».
Существует и «четвертый путь», основанный на священном импульсе, идущем от совести, ростки которой есть в каждом человеке. Этот путь ведет к другой форме учения, новому подходу к религии».
«Вы согласились, – продолжал он, – что описание кролика, ограниченное началом, неизбежно приведет к путанице. Так же, как у кролика есть много аспектов, с которых можно начать описание, так и Религия представляет бесконечный диапазон отправных точек. Особенно подумайте о настоящей трудности – как избежать упрощений так называемого рационального мышления. Любой должен признать, что почти никто не знает истинную суть своей собственной религии, но тем не менее каждый считает, что он может судить все остальные».
Затем он закончил встречу следующими словами: «Только тот, кто благодаря упорным сознательным усилиям преуспел в освобождении от хаоса, возникающего из его собственного недостатка сознательности, может узнать, что действительно означает Религия».
Подобные напряженные моменты, проведенные с Гурджиевым, открывали для нас более глубоко вопросы религии и подводили к тому, чтобы воспринимать традиционные учения по-новому.
Пробужденный человек перед лицом войны
Как и у всех, определенный образ себя сформировался у меня в юности. Я был полностью убежден, что все мои мнения, реакции и цели – абсолютно правильные и ценные. Я не представлял, что могут существовать другие ценности, столь же достоверные и обоснованные, как и мои собственные. Определенные идеи – такие как патриотизм, долг и дружба – имели для меня абсолютное и безальтернативное значение, их я считал священными. Меня совершенно потрясло открытие, что мотивы и точки зрения других людей полностью отличались от моих и обладали такой же достоверностью, и, возможно, были даже более правильными. Однажды, вскоре после моего прибытия в Константинополь, противостояние Георгию Ивановичу буквально перевернуло мой внутренний мир вверх ногами и вынудило меня исследовать основы всех моих убеждений.
Мы пили чай в тени деревьев возле павильона «Русский маяк». Беседа перешла в воспоминания о войне, все еще чрезвычайно живой в нашей памяти. В тот жаркий день Гурджиев, проходя мимо, остановился немного передохнуть. Мы поднялись предложить ему место. Он сел и попросил продолжать наш разговор, будто его с нами не было, поэтому мы вернулись к разговору о войне.
Расслабленная поза Гурджиева вдохновила нас рассказывать о множестве событий, которые все мы пережили. Переходя от одного героического эпизода к другому, мы, естественно, стали осуждать трусость дезертиров. Один из нас начал обвинять евреев в том, что они не патриоты и не верны России и ее союзникам. Он описал, как они отказывались воевать в различных ситуациях. Все мы присоединились к осуждению этих трусов и дезертиров.
Георгий Иванович ничего не сказал, но что-то в его облике заставило нас почувствовать себя неловко, и мы захотели узнать его мнение относительно столь животрепещущего вопроса. Повисла тишина. На его лице не видно было больше прежнего выражения одобрения. Он глубоко вдохнул и выдохнул, вместе с воздухом улетучилось и наше праведное негодование.
Поскольку обсуждение застопорилось, Гурджиев вмешался. «Вы говорите, что евреи – не патриоты и обвиняете их, в том числе, в трусости, недостойной русских подданных. Вы говорите и о большом количестве дезертиров в конце войны. Можете ли вы сказать мне разницу между дезертирами в начале, в середине и в конце войны?»
Этот вопрос удивил меня. Я никогда не задавал его себе раньше. Внезапно я понял, что таких «дезертиров» отличал только момент, когда они открыли глаза и увидели военную действительность.
«Тот, кто осознал, что такое война на самом деле, – продолжал Георгий Иванович, – не может не хотеть дезертировать. Если евреи отказались участвовать в убийствах и резне, то это потому, что их, не ослепленных патриотизмом, меньше поработила всеобщая слепота и поэтому они более свободны были действовать сознательно».
Эти слова Гурджиева произвели на меня сильное впечатление, будто он просил высадить рассаду корнями верх. Тем не менее, я знал, что свойственная ему философия относительности вещей часто побуждала его провоцировать слушателей, показывая нелепость крайностей. Видя, что его вмешательство оказало подобный эффект и никто не пытается возразить ему, он встал и зашел в павильон. Вернувшись, он посмотрел на свои часы, сказал, что у него встреча и ему нужно идти.
После его ухода начался протест. Когда противодействие такому посягательству на патриотизм достигло высшего накала, официант вдруг принес каждому из нас стакан чая и несколько маленьких пирожных. Заметив наше удивление, он сказал, что это любезность господина Гурджиева. В ответ на такой жест наше негодование начало спадать. Вновь мы почувствовали ту же неловкость, что и раньше, и наш бунт против слов Гурджиева постепенно стал терять свою силу.
Моя память быстро освежилась. Впервые я сравнил свою приверженную позицию 1916 года с отношением года 1919, когда, испытывая отвращение ко всем этим убийствам, я также стал потенциальным дезертиром. Признавая неизбежное отступление, я с невероятным облегчением согласился оставить борьбу.
Через несколько лет меня еще больше поразила болезненная правда одного из коротких высказываний Гурджиева: «Сознательный человек отвергает войну. Взаимное уничтожение – проявление спящих людей».
Порядки законов
Когда Гурджиев открыто выражал неудовольствие нашей работой он в то же время искусно старался помочь нам яснее увидеть то, что понять мы не могли. Однажды мы говорили о том, насколько человек зависим от законов, управляющих его существованием. Он с интересом слушал наши примеры, но когда один из нас неверно использовал выражение «порядок законов», он вмешался и спросил, какое значение мы придаем слову «порядок». Каждый объяснил его по-своему. Кто-то сказал, что оно означает количественный или числовой порядок законов в разных мирах. Другой видел в нем относительность детерминированных законов, каждого в зависимости от удаленности от первоисточника.
Послушав нас некоторое время, он сказал, что если мы подчиняемся закону, то важен не закон сам по себе, а возможность освободиться от него, механически или благодаря развитию сознания. Он напомнил, что есть законы, управляющие мирами и поддерживающие их, законы, которым подчиняются планеты, законы, управляющие органической жизнью на Земле, законы психологического порядка, законы, управляющие миром атомов и так далее. Все эти миры, от наибольшего до наименьшего, расположены один внутри другого, подобно набору русских матрешек, и каждому из них соответствует определенный порядок законов. Должно быть, Гурджиев увидел написанное на наших лицах недоумение, поскольку часто возвращался к этой важной идее его учения. Он очень настойчиво пытался помочь нам рисунками и метафорами, которые мог понять даже ребенок.
«Итак, теперь вы видите, – сказал он нам однажды, – что человек живет, подчиняясь различным порядкам законов. Так происходит из-за одновременного действия различных порядков законов, принадлежащих высшим мирам лестницы Луча Творения, на которой Земля включена во все большие и большие миры».
Чтобы помочь нам в понимании столь новых для нас идей, Георгий Иванович начал адаптировать их для нашего уровня. Он поражал меня и моих молодых друзей, большинство из которых лишь недавно демобилизовались, изобретательностью своих объяснений.
«Представьте, – сказал он, – мальчика, родившегося в 1920 году. В 1940 году его призовут в армию, вместе с ровесниками. Так, с самого рождения, он неосознанно подчиняется порядку военных законов, с которыми столкнется только когда его призовут. Воинские законы зависят от страны, дивизии, полка, взвода и так далее – у каждого уровня свои законы.
Например, призванный молодой солдат находится под влиянием определенных законов. На действующей военной службе он будет подчиняться другим законам. Присоединившись, например, к своему взводу, он освободится от законов, довлеющих над ним при призыве, но будет зависеть от законов взвода, полка, дивизии и страны. Завершив свою военную службу, он временно освободится от определенных порядков законов. Таким образом, видите, порядок воинских законов содержит множество законов, о которых человек не знает».
Эти простые и конкретные образы постепенно раскрыли нам идеи масштаба и относительности, отличающие его учение.
Рациональные проблески бессмертия
Я закончу свой отчет о наших встречах с Гурджиевым в Константинополе, вспоминая его ответ на вопрос о бессмертии. Это было в Принкипо, незадолго до нашего отъезда. (Незадолго до этого умер хороший друг одного из членов нашей группы, и мы говорили об этом, когда пришел Гурджиев. Мы смущенно затихли, пойманные на праздной болтовне о деталях смерти покойника. Нам было стыдно, что мы говорили не о своей работе и наблюдениях.
Через некоторое время один из нас начал ерзать и кашлять, его нервозность выдавала, насколько трудно ему сформулировать свои мысли. «Я действительно не понимаю, – наконец произнес он, – как работа духовного характера ведет к бессмертию. Этот вопрос всегда беспокоил меня, для меня объяснение, которое вы дали о возможном выживании тонких тел, очень туманное».
Гурджиев оглядел нас тяжелым взглядом, а потом, с обычной мягкостью и спокойствием в голосе, сказал: «Да, это верно. Очень трудно представить, что такое возможно. Чтобы постигнуть подобную возможность, нам нужно знание различных функций человеческого тела и физических тел вообще. В лаборатории человеческого тела три вида пищи – физическая пища, воздух и впечатления – преобразуются не только в необходимые для жизни организма вещества, но и в тонкие вещества и энергии с более высокой частотой вибрации.
Вы знаете, что в желчном пузыре, например, камни образуются в результате кристаллизации из насыщенной жидкости. Психические вещества подчиняются тому же самому закону и, достигнув определенной концентрации, кристаллизуются, как соль, когда ее концентрация превышает определенный предел.
Чтобы понять, как достигнуть бессмертия, нужно знать, что в определенных условиях у человека есть возможность преобразовать грубые энергии в очень тонкие. Благодаря накапливающей эти энергии работе, они могут достигнуть высокой концентрации и, в конечном счете, кристаллизации. Каждый изучающий материальную химию знает, что свойства кристаллов обладают множеством преимуществ перед существованием в насыщенной жидкости.
Например: если вылить в реку ведро соленой воды, то можно будет в определенный момент в пятнадцати метрах вниз по течению обнаружить присутствие соли. Вода будет не такой соленой, как в ведре, но соль все еще можно будет обнаружить. С другой стороны, в километре вниз по течению соль уже настолько растворится, что ее нельзя будет обнаружить на вкус или с помощью анализа.
Если представить жизнь в виде этой реки, а соль – веществом бессмертия, тогда однажды кристаллизованная соль сохранится дольше соленой воды. Вы понимаете, о чем я только что говорил?»
Понаблюдав, как мы выражаем согласие, Гурджиев продолжил: «Если есть возможность достать кристалл соли из реки и поместить куда-нибудь, где вода не может его растворить, то теоретически он будет бессмертен. В случае с человеком поток жизни непрерывно уносит все сформированные в нем энергии, что мы легко можем для себя обнаружить. Если человек смог избежать поглощающих влияний жизни, то сознательно сформированное им благодаря работе вещество может быстрее кристаллизоваться и остаться на более высоком уровне, отличном от того, на котором он живет своей обычной жизнью. В этом случае высвобожденное материальное вещество, вещество сознания, будет обладать уникальными свойствами в своем собственном мире. Оно получит независимое существование и не будет более растворяться в повседневном функционировании человека».
Я не знаю, сколько времени заняло это объяснение, но я точно помню, что потом Гурджиев говорил о законе трех сил, или законе Троицы. Используя в качестве другого примера метафору приготовления хлеба, он хотел помочь нам понять, как может сформироваться новое независимое единство.
«В приготовлении хлеба вода представляет активную силу, мука – пассивную силу, а огонь – нейтральную силу. Хлеб – независимый результат, четвертый элемент, результат действия этих трех сил.
Каждая из трех сил необходима для приготовления хлеба; если нет одной из них, хлеб не получится. Из обработанного определенным образом теста можно снова получить муку; но хлеб, даже измельченный в порошок, снова стать мукой не сможет никогда. У однажды испеченного хлеба своя собственная судьба.
Трудно понять природу реки, о которой мы говорили раньше, и как можно покинуть ее, чтобы могла произойти кристаллизация. Такие как сейчас, вы не можете этого сделать; вы даже не видите плачевных последствий непонимания этой идеи. Именно недостаток понимания послужил причиной возникновения во многих монастырях аскетизма, где монахи слишком часто изнуряют себя, вместо того, чтобы развиваться. Возможно, вы поймете позже, а пока что давайте вернемся к нашей работе».
Тем вечером Георгий Иванович взял нас в турецкую часть города, где люди отмечали праздник Байрам. Здесь он долго рассказывал нам об обрядах и обычаях Востока.
На следующее утро все наше внимание поглотили тщательные приготовления к предстоящему отъезду.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе