Разговор за час до казни. Рассказы о преступниках, суде и камере смертников
Текст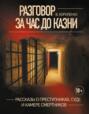


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 35,90 ₽
- Объем: 570 стр. 255 иллюстраций
- Жанр: публицистика
Глава VII
Экспроприаторы
В сентябре 1909 года в киевском окружном суде (с присяжными заседателями) разбиралось дело эстонского журналиста Эккарта (Энделя) Хорна. Ранее он был приговорен к каторжным работам за политическое преступление, совершенное в Прибалтийском крае, где, как известно, революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы. В киевской Лукьяновской тюрьме, где он отбывал наказание, в соседней с ним камере содержалась смертница, Матрена Присяжнюк, бывшая сельская учительница. В августе 1908 года она была приговорена киевским военно-окружным судом к смертной казни. Двенадцатого сентября приговор был утвержден, но исполнение почему-то затянулось. Перед казнью Матрену Присяжнюк перевели в камеру рядом с Хорном. Он слышал ее шаги и звон кандалов. Ночью светила луна. Через стену было слышно, как приговоренная, звеня кандалами, подошла к своему окну. Два товарища, осужденные вместе с нею, уже раздобылись ядом. Хорн вскрыл замазанное глиной отверстие в стенке и передал девушке цианистый калий в носике чайника. Она приняла яд, и Хорн до конца разговаривал с нею, утешал ее. В письмах к невесте, сидевшей в той же тюрьме, он описал последние минуты Матрены Присяжнюк (кружковая кличка ее была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писал человек, потрясенный до глубины души. О себе он иной раз говорит в женском роде, о своей невесте и Рае – в мужском.
«Я ждал вечера. Какой это был длинный, мучительный день… Когда все у нас ложились спать, я открыл ножиком замазанное глиной отверстие… Через несколько минут я увидел свет из ее камеры… Открывается отверстие, и она называет меня по имени. О боже! Я должен был передать ей… Я чувствовал, как она сняла с палочки мое послание… Затем передал ей два письма. Все время с жадностью смотрел я в отверстие. Она читала. В это время спрашивает Степа из каземата, чтобы спросить у Раи, когда она думает принять, чтобы уйти вместе… Какая любовь! Они любили ее… Звон кандалов. Значит, прочитала…» «Милый, я долго говорил с нею, я дополнил словами письмецо. Наконец, я просил ее немного отступить от отверстия, чтобы я мог ее увидеть. И я увидел ее красивое, чистое личико. Какой я был счастливец! Она смотрела на меня и смеялась тихо, тихо… „Эндель, ты слышишь, я смеюсь?“ – „Да, Раичка, слышу… Что с тобою?..“ – „Мне смешно, что мы здесь увидимся, что мы сумеем еще говорить…“ Затем она спросила: что с тобою? Где Анатоль, где „земляк“?.. „Передай моей Надюшке мои приветы и поцелуи“. Здесь она уходит. Через некоторое время опять подходит. Степа спрашивает: „Когда?“ „Сегодня, после смены, – ответила она. – Действует ли калий?“ – „Да, дорогая. Больше ничего не могу тебе дать!“ Здесь я страшно волновался. Передать из рук в руки другу, которую так любишь, смерть, когда так хочется жить. Это ужасно… „Не волнуйся, Эндель“, – ответила она.
Я молчал, а она говорила что-то. Наконец она спрашивает, каким образом принять. „Разотри в порошок. Можно немного воды“. – „Хорошо, я возьму так“. Она ушла.
После смены стук в стенку – я подошел. „Сейчас приму, Эндель, я без воды. Что парни?“ – спрашивает она. „Кажется, уже“. – „Прощай“. – „Прощай, дорогая“. Я слышал шорох платья, звон кандалов. Затем тишина. „Раичка, приняла?“ – „Уже, прощай“. – „Прощай, дорогая…“ Несколько секунд была глубокая тишина. Затем она сильно задышала. Вздохи… Опять слабое дыхание… наконец сильные вздохи… тишина. Тише, человек умер… не стало дорогой Раички. Тише, человек умер, но жизнь идет своим чередом… Я говорил с нею, я слышал все, был с нею до последней минуты. Все это навсегда запечатлелось в моей душе… Нет Раи, говорите вы… неправда! Я говорю – она есть и теперь со мною, со всеми нами, которые любили ее. Мы будем жить ею. Через некоторое время послышались стуки в стенку, но отвечать было незачем. То пришли тюремщики»[6].
Это письмо попало из тюрьмы на волю, ходило по рукам и спустя полгода было взято при обыске у некоего Кинсбургского. Оно послужило основанием для возбуждения против Хорна нового дела «о пособничестве самоубийству», которое разбиралось 10 сентября 1909 года киевским окружным судом. Почему оно было направлено в порядке общей подсудности, с присяжными и даже при открытых дверях, – сказать трудно. Если правительство рассчитывало показать обществу «чудовищ», которых военные суды келейно приговаривают к смертной казни, то расчет оказался ошибочным. «Медленно и страшно, – говорит автор судебного отчета, – приподнялась завеса над одним из ужасов жизни. Наступающие сумерки, сухое и отчетливое чтение письма среди мертвой тишины производило глубокое впечатление». В коротком последнем слове Хорн, признавая факт, отрицал вину. «Она приговорена была к смертной казни, приговор был утвержден, и я помог дорогому товарищу освободиться от нее. Я ничего безнравственного не совершил». Дальше он не мог говорить от волнения и сел… Присяжные удалились в совещательную комнату только на одну минуту. Приговор был оправдательный.
В значении его едва ли можно ошибиться. Присяжные – это люди из того самого общества, которое правительство защищает от экспроприаторских налетов посредством военных судов и смертных казней. Хори – революционер, анархист, стоявший очень близко к экспроприаторским кругам… И тем не менее во всем эпизоде нет ни одной черты, которая бы говорила о «кровожадной свирепости» или «глубокой испорченности», невольно возникающих в воображении в связи с таким отвратительным явлением, как экспроприация, вдобавок еще частная. Для присяжных она осталась в тумане. Перед ними и перед обществом встал только образ интеллигентной девушки довольно распространенного в России типа, со знакомой издавна психологией прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловеческого страдания и атмосферу такого взаимного сочувствия, что присяжные, как мы видели, даже не колебались. Их приговор явился непосредственным откликом общественной совести. Несомненно, что Хорн помог жертве правосудия ускользнуть от виселицы. Он содействовал самоубийству… Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди среднего русского типа, сказали: невиновен. Не знаю, конечно, вспоминали ли они знаменательное признание гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и без гр. Витте у среднего русского человека, поставляющего контингент присяжных заседателей, есть представление о связи явлений, которая в последнее время становится особенно ясной. И если даже в миазмах экспроприаторской эпидемии перед удивленным взглядом такого среднего русского обывателя встают черты душевной красоты и чувствуется психология самоотвержения, то тут есть повод задуматься о причинах этого угара… Общественная совесть не мирится, конечно, с экспроприациями. Но она не может примириться и с прямолинейным решением трудного вопроса посредством нерассуждающей «упрощенной» процедуры, в конце которой веревка и виселица…

Временная связь между экспроприациями и традициями политических партий, проявленная в бурном периоде движения, не могла удержаться долго. Она была вызвана неверной оценкой данного момента.

По существу, как длительная тактика борьбы, она противна психологии революционных партий. Антагонизм проявился сразу и с тех пор только усиливался. Случайные идейно-революционные элементы уходили из отравляющей душу полосы, экспроприация все больше приближалась к простому разбою, иногда в самых отвратительных и жестоких формах. Но для правительства и для вульгарной «благонамеренности» вообще выгодно смешивать эти явления. Репрессии против всех оппозиционных партий оправдываются существованием экспроприации. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент социальной рефлексии, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Свобода мнений выставляет самые крайние из них под свежие веяния критики. Наша власть продолжает считать своим успехом и признаком своей силы то обстоятельство, что ей удалось загнать работу оппозиционной мысли и воли в душные подполья, оставив на поверхности жизни одно только властное предписание, один только голос «организованного беспорядка» и стихийную анархию об руку с разбоем…
В этом правительство достигло значительных внешних успехов. Одного только оно устранить не в силах – это общего, можно сказать, всенародного сознания, что так дальше жить нельзя. Сознание это властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии. Ни уважения к «отсталому строю», раз уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуважения, как к членам организующегося по-новому общества… Вы говорите о каких-то возможных еще приемах легальной или хоть не вполне легальной партийной борьбы. Где они? Вот. Только эти люди еще борются при всяких условиях. Итак, долой социальную рефлексию, долой всякую организацию, всякие положительные программы и принципы! Мы принимаем только ясное, простое, очевидное: неорганизованное, не связанное никакими ограничениями выступление анархической личности. Насилие индивидуальное – на насилие легализованное, тайное убийство – против казни по упрощенному суду или совсем без суда, грабеж – против разорения «административным порядком», личная кровавая месть – против истязаний в участковом застенке, партизанская анархия – против того, что цензор Никитенко назвал так метко «организованным беспорядком». Общий фон – глубочайшее презрение уже не только к одной стороне жизни, а ко всей жизни: к правительству, к обществу, к себе и к другим. Мы видели, как один из смертников прощался со всем этим краткой формулой: черт с ними!
Этому процессу нельзя отказать в последовательности. Он последователен, как любая болезнь в организме, пораженном маразмом застоя, как воспаление там, где есть невынутая заноза, как заражение крови…
Среди материалов, сообщенных нашим корреспондентом, есть одно письмо, поразительное по цельности и интенсивности стихийно анархистского настроения.
«Вы спрашиваете, к чему я стремился? И действительно – к чему? Я не могу объяснить. Я не нахожу тех слов, которыми мог бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что не то в жизни, что должно бы быть. А как должно быть по-настоящему, я не знаю или, пожалуй, знаю, но не умею рассказать. Когда я был на воле, то наблюдал, что люди делают не то, что нужно делать, а совсем другое. Несколько лет назад и я сделал не то, что нужно, а потом махнул рукой на всех и стал делать то, что хочу и что мне нравится».
Себя он характеризует с беспощадной откровенностью:
«Я страшный эгоист и любил только себя во всю свою жизнь. Я одно ясно сознавал: я живу, а раз живу, то для этого нужны деньги (!). Своих денег у меня не было, и я брал, где только они есть. Я не знаю, быть может, это и худо, но я ни на кого не смотрел. Мне нет дела до людей, какого они мнения о моих поступках. Ты и сам знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорее сам отниму. Я всегда старался угнетать слабых и брать у них все, что мне надо. Если бы понадобилась их жизнь, я отобрал бы ее, но в жизни других я не нуждался. Ты не думай, что под слабыми я разумею бедных людей. Нет. У нас и богач – слабое существо. Я на воле был сильнее богача, но теперь я слаб, у меня отняли все, что я имел, и мне остается умереть».
Правда, среди всего материала, которым я располагаю в настоящее время, это письмо является единственным по своему безнадежно-мрачному, беспросветному цинизму. Другие только в большей или меньшей степени к нему примыкают. В них это настроение смягчается по большей части проблесками признания где-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печалью о погибающей жизни.

«Придется умереть, – пишет восемнадцатилетний юноша. – А как хочется жить, если бы ты понял! Страшная жажда жизни. Подумай: мне ведь только восемнадцать лет. А как я прожил эти восемнадцать лет? Разве это была жизнь? Это были сплошные страдания. Ведь у нас семейство семь душ. Работник почти один брат. Я еще какой работник! Обо мне и говорить нечего: много ли я мог заработать? Плохо было жить. Так я жизни и не видел».

«Жизнь прошла бледной, как в тумане, – пишет другой смертник. – Является чувство жалости к прожитому. Почему я был так темен и не знал другой жизни? Почему я не учился?.. Жалеешь, почему так поздно узнал то, что узнал теперь. Почему жизнь была так пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно».
«Впрочем, – заканчивает он безнадежно, – успокаивает мысль, что рано или поздно, но не избежать бы мне этого. Если бы и выбрался я на волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испытал этого. Пришлось бы заниматься тем же. Значит, я опять явился бы кандидатом на виселицу».
«Все хорошее, – пишет третий, – заслонялось дурным, и я видел только зло во всю свою хотя и короткую жизнь. Видел, как другие мучаются, и сам с ними мучился. При таких обстоятельствах и при такой жизни можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее? Прежде я работал на заводе, и мне это нравилось. Потом я понял, что работаю на богача, и бросил работу. С вооруженного восстания стал грабить с такими же товарищами, как я».

«Да и стоит ли выходить на волю? – спрашивает четвертый. – Нашел ли бы я там людей, с которыми стоило бы жить? Я знаю, что где-нибудь есть хорошие, честные люди, но я их не найду, а сойдусь с какими-нибудь негодяями. Пожалуй, и не стоит выходить на волю и жить так, как я жил раньше. Лучше уже умереть, чем сплошная мука».

Порой встречаются попытки реабилитации и оправдания экспроприаторской «деятельности». «Я напишу вам о том, что меня мучает в данную минуту, – пишет один из экспроприаторов-смертников политическому заключенному. – Я знаю, что большинство людей считают меня, как и других экспроприаторов, простым вором. Но я не для себя грабил, а помогал тому, у кого ничего не было. Об этом знают многие. Я делал это не от лица какой-нибудь партии, а от себя лично, и мне так обидно, когда обо мне говорят так. Когда я прежде сидел в общей камере с уголовными, то все говорили, что экспроприаторы грабят только для себя. Я спрашиваю вас: неужели те, которые сидят с вами в одной камере (речь, очевидно, идет о политических), думают так же, как уголовные? Я говорил прежде уголовным, что есть люди, которые берут не для себя, а для других. Лично о себе я ничего не говорил, но мне всегда было так горько при таких отзывах об экспроприаторах».
Но общий уровень экспроприаторской среды падает гораздо ниже и этих наивных попыток своеобразной идеологии. «Я грабил с такими же экспроприаторами, как и я, – печально признается еще один автор, – но и тут подлость: товарищ у товарища ворует. Я участвовал во многих грабежах, но редко проходило без подлости. Разве это не обидно? Ведь свой у своего берет? А снаружи все хорошие люди. И как жить после этого?»
Читатель, вероятно, заметил горькую, хотя, может быть, и несознательную иронию этих заключительных слов. О том, чтобы найти правду в обычных условиях общества, этот погибающий юноша уже и не говорит. Остались еще, по-видимому, немногие хорошие люди. Это экспроприаторы, которые одни дерзают активно восставать против торжествующей несправедливости. Но и они хороши только «снаружи», по своему, так сказать, «почетному званию». Как жить после того, когда даже среди них настоящей правды не оказывается!..
Глава VIII
«Приговор утвержден»
Этим исчерпывается автобиографический, так сказать, материал, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту.
Эти интимнейшие, откровенные и совершенно бескорыстные признания-исповеди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались из камеры смертников в другие тюремные камеры к людям, которые не имели ни малейшей возможности повлиять на участь приговоренных. В каждой строчке звучит поэтому одна предсмертная правда. Многие авторы писем откровенно говорят о том, что для них при данных условиях нет уже никакого исхода, и сомневаются, стоит ли им даже мечтать о жизни. И тем не менее только в одном (первом) письме можно, пожалуй, увидеть признаки настоящего цинизма и нераскаянности. Во всех остальных сквозят горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни, по какой-то труднодоступной правде. Можно ли, положа руку на сердце, сказать, что для тех, кто писал эти исповеди, не может быть места среди людей и что рука, утверждавшая эти приговоры, удаляла из жизни извергов, недоступных ни раскаянию, ни исправлению?
А ведь все это писано по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими разъедающей атмосферой вульгарно-анархической психологии. Таково ли, однако, большинство жертв военной юстиции? Экспроприаторство – это эпидемия. Нередко она захватывает людей просто среднего типа, не думавших за месяц до преступления, что они могут в нем участвовать, и просыпающихся от закрутившего их вихря, точно после тяжелого сна. В газетах появлялись не раз письма смертников к родным, ярко выражавшие это пробуждение от кошмара, проникнутые страстным чувством раскаяния.
Вот несколько примеров.
Некто Карамышев служил в экономии Орлова-Давыдова, в Аткарском уезде, Саратовской губернии. Был обыкновенный служащий, нажил на службе увечье и должен был получить за это увечье деньги. Но в промежутке принял участие в нападении на купца, причем никому никаких ран причинено не было. Самый обыкновенный грабеж, окрашенный современным колоритом «экспроприации». Тем не менее он был приговорен к смертной казни. Вот его предсмертное письмо к родителям[7]:
«Дорогие мои родители, папаша и мамаша, и сестрица Феня! Пишу я свое любезнейшее письмо к вам со слезами на глазах; извещаю я вас в том, что я присужден к смертной казни через повешение. То прошу, дорогие мои родители, простите меня и все мои преступления перед вами. Перед смертью я исповедывался и причастился, отклонить этого я не мог.
Прощай, родной ты мой отец, прощай, родная моя мать, прощай, сестрица моя родная, прощайте все мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогие мои родители, отслужите панихиду по мне. Ах, как трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ване, что меня уже нет на свете. Дорогие мои папаша и мамаша! Когда писал это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились с моих глаз и капали прямо на стол. Передайте моей жене, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навещали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моим дядям и теткам и также крестной и дедушке, что я уже помер. Передайте смертный мой поклон Федору, Петру, Василию, Мише и всем моим знакомым. Еще прошу, напишите в Баку тетке и брату Василию о том, что меня нет в живых. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увечье, то прошу вас сердечно построить на эти деньги хороший дом, и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мне, так как у вас осталось еще четыре сына; довольно вам и этих, без меня обойдетесь. Ну, дорогие мои родители, прощайте же еще раз. Прощай, мое село родное, где я родился и провел свою молодость. Прощай, все общество мое. Простите меня, злодея окаянного. Бог, может быть, не оставит меня и простит грехи мои все.
Письмо это я писал перед смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что так плохо написал, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нет уже меня. Еще раз прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждут. Любящий сын ваш Василий Максимов Карамышев».
Читатель видит, что здесь нет и намека на характерную психологию экспроприаторов-анархистов, нет также и тени какой бы то ни было оторванности от среды и ее отрицания. Эта расстающаяся с миром душа – душа крестьянина, крепко связанная с семьей, с обществом, со своим миром.
За экспроприацию в Балашовском уезде Саратовской губернии был приговорен к смертной казни Шуримов. Его отец, слепой старик, проживающий в Цимлянской станице (области Войска Донского), получил от него следующее письмо[8]:
«Здравствуй, дорогой папа! Шлю тебе свой последний прощальный привет и желаю много… много… счастья. Прости, дорогой, что я так долго тебе не писал. Ты подумаешь, что я вконец забыл тебя. О милый папа, не обвиняй меня так жестоко. Все это время нашей разлуки с тобой было сплошное мученье для меня. Я только тем и жил, что думал, настанет время, когда я навсегда соединюсь с тобой, когда я буду в силах преклонить твою седую голову к себе на грудь и залечить душевные раны, что нанес твоему бедному, истерзанному сердцу. Но это время не настало, мечты мои разлетелись, и осталась горькая действительность. Я с 29 мая 1908 года сижу в тюрьме. Двадцать третьего января я был на суде и приговорен к смертной казни. Приговор послан на утверждение командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть заменили каторгой. Мне осталось жить дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приезжай, тебя допустят увидеть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что последняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бедную голову. Поцелуй Пашу и Мишу. Всем родным поклон. Прощай, папа!»
Как и ожидал присужденный, приговор был приведен в исполнение.
Еще более яркие, по покаянному настроению, письма написал восемнадцатилетний юноша, Евгений Маврофриди, приговоренный к смерти военно-окружным судом в Новочеркасске в декабре 1908 года.
«Здравствуйте, дорогая мамочка.
Я, по воле всевышнего, еще жив, но в будущем не знаю, что со мной будет, приведут ли в исполнение приговор или же нет, но я, дорогая мамочка, чувствую, что я живу последние дни, а может быть, даже и часы, вот уже десятые сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, как заяц, к каждому шороху, и как только проходит мимо какой-нибудь надзиратель, так мне все кажется, что это за мною, то есть мне кажется, что легче будет умирать на виселице, нежели ожидать вот так каждую минуту то, что откроется дверь и скажут: выходи! Но, дорогая мамочка, на все его святая воля, я надеюсь на него. Он сам страдал, но он страдал за наши грехи, то есть за грехи всего народа, а я страдаю за то, что не слушал вас, дорогая мамочка, и не молился ему, который умер за наши грехи. Да, дорогая мамочка, грешен я перед богом и перед вами. Каюсь, ну что, теперь, мне, кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я вас, молился бы почаще богу, ничего бы подобного не было; а то я послушал совета товарищей и оставил службу в банке, не бросил бы я служить, не сидел бы я теперь и не ждал бы каждый час смерти, а ожидал бы, как каждый христианин, среди вас, дорогие мои, праздника рождества Христова, ну, на все воля всевышнего. Суждено мне умереть – я умру, если нет – значит, буду жить.
Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вразумляйте его, пусть он молится богу за всех вас, а также пускай помолится за своего грешного брата, может, бог услышит его, а обо мне, дорогая мамочка, забудьте, я недостоин, чтобы из-за меня мучились люди, а тем паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она вас слушалась, и училась, и молилась за своего грешного брата богу. Мамочка, смотрите за ними, то есть за Колей и Марусей. Скажите им, чтобы они вас слушали, а не подруг и товарищей.
Дорогая бабушка, я знаю, что я вам приношу много горя, так как я горячо вами любим, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня богу. Да, дорогая бабушка, тяжело умирать в таких летах, как я, ведь мне только восемнадцать лет, и я должен умирать, ну, раз так хочет бог, то пусть так и будет. Если господь нас, то есть меня с вами со всеми, дорогие мои, разделяет здесь на земле, то он нас соединит там, где дорогой мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку, скажите ей, что у нее есть еще Коля и Маруся; я молю бога, чтобы она нашла в них себе утешение.
Ну, покамест до свидания, а может быть, прощайте, это бог знает. Целую вас всех крепко, поцелуйте за меня тетю Шуру, Колю, Марусю и всех остальных. Евгений Маврофриди».
В том же тоне написано и письмо к брату, тому самому Коле, о котором этот юноша несколько раз упоминает в предыдущих письмах. Он просит его не оставлять мать и сестру: «у них одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги их, выучи ты Марусю, чтобы из нее вышла порядочная барышня, а не какая-нибудь потаскуха… Не оставляй службы, служи, терпи и боже тебя сохрани послушать совета товарища без совета матери… Дорогой Коля, если мне придется умирать, то я оставлю свой крестик золотой на серебряной цепочке, ты его получишь в тюремной конторе и одень его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради бога, это будет благословение твоего грешного брата».
В Таганрог, где жили родные Маврофриди, письма пришли с прокурорской пометкой: писаны они 18 декабря. Мы не знаем, что предпринимала несчастная мать, но приговор был утвержден, и 29 декабря 1908 года восемнадцатилетний Маврофриди казнен.

И сколько таких матерей, и сколько отцов, и братьев, и сестер, и бабушек получали в последние годы такие письма. Сколько тут еще косвенного, непоправимого и незабываемого страдания людей уже совершенно невинных.

Слепой старик Шуримов, получивший в Цимлянской станице от своего сына цитированное выше письмо, захотел исполнить его просьбу и отправился в Саратов, чтобы получить прощальное свидание. В первой статье я уже рассказывал об его «хождениях по этому делу». Чтобы добиться простой справки – жив ли еще его сын, или его уже казнили, – ему пришлось путешествовать из Саратова в Казань, и только по возвращении оттуда «справку» наконец дали: сын уже повешен. Что теперь с этим слепым стариком? Жив ли он или не выдержал тяжкого удара и последовал за сыном? Мы не знаем. Это знают, вероятно, в Цимлянской станице. «Были случаи, – говорит сотрудник „Нашей газеты“, описавший мытарства Шуримова-отца, – покушения на самоубийство лиц, близких к казненным: люди не выдерживали ужаса такой потери. Во всех таких случаях общество, несомненно, казнит невинного вместе с виновным»[9].
А вот еще бытовая картинка в современном вкусе, которую господин А. П. нарисовал с натуры в газете «Речь». Автору случилось 3–4 января 1909 года ехать с вечерним поездом из Ставрополя Кавказского. Ехали, как обыкновенно ездят в вагонах третьего класса, и разговоры шли обычные. На первой остановке в то отделение, где помещался автор, вошел мужчина в опрятном костюме, который на Кавказе носит название «хохлацкого» и всегда выдает переселенцев из малорусских губерний. Ничего особенного на первый взгляд в этом переселенце никто из пассажиров не заметил. Фигура тоже бытовая, обычная, и ее тотчас же, по обыкновению, приобщили к обычному вагонному разговору: кто? откуда? куда? по какому делу? торговля? покупка или продажа хлеба, скота, яиц или масла?
Оказалось, что едет он в Таврию и дела у него не торговые… А какие?
– Да так… несчастие маленькое вышло…
Что ж. И это дело обычное. «Со всяким человеком случаются несчастия». «Без этого невозможно. Дело житейское».
– Болен кто-нибудь?..
– Никто и не болен… Сына повесили.
Всех поразил спокойный, по-видимому, тон этого ответа. Известие было неожиданное и не совсем обычное. К такому «бытовому явлению» даже наша российская публика еще не совсем притерпелась, как к обычному предмету вагонного разговора… Кое-кто, может быть, сразу и не поверил. Но «спокойный» незнакомец вынул из кармана «документы», и господин А. П. прочитал их. Документов этих было два. Первый гласил:
«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке в последнюю минуту повели меня. Нас на казнь пять человек Котеля, Воскоб<ойникова>, Лавронова и Киценка. Вы хорошо знаете кажется хто был я и умру не первый и не последний. Привели меня в темную так называемую одиночку так что я писать не вижу, ни буквы ни линеек, которые находятся на этой бумаге. Дорогие папочка и мамочка и дорогие братики и сестрички читай<те> это письмо, но прошу не плачьте и (не) тратьте своего здоровья и сил и так слабы прошу не плачьте. А гордитесь своим сыном я умираю гордо и смело смотрю смерт<и> в глаза я нисколько не боюсь ее я очень рад что кончено мое мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часов у 12 или в час я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом. Это последнее прощальное письмо. Целую вас папу, маму, Васю, Ваню, Катю, Маню, Варю. Прощайте, прощайте Коля Котель».
Другой документ было письмо защитника в чисто деловом тоне.
«Милостивый государь. Сын ваш был осужден судом к смертной казни, причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме случайно узнал о том, что Каульбарс не уважил просьбы и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».
Читатель легко представит себе «вагон третьего класса» после оглашения этих документов. Поезд несется по русской равнине, громыхая и лязгая цепями, светя в темноту ночи своими окнами. В одном вагоне третьего класса все притихло. Кто не спит, слушает чтение документов и (теперь уже не совсем спокойные) речи «переселенца» в хохлацком костюме.
– Лучше бы меня повесили, – так передает господин А. П. общее содержание этих речей, – чем его, молодого, в расцвете сил. Добрый был. Ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив… Растили… радовались… Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули… Пусто…[10]
В публике слушают, качают головами: «бытовое явление» повернулось необычной стороной: перед глазами этих людей уже не экспроприатор и не революционер, а отец, такой же, как и все эти отцы, у которых тоже есть дети. И они тоже разошлись по белому свету в учение, на заработки, на службу… Кто их знает? Из семьи тоже уходили добрые, любящие, ласковые. Писали письма: «дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вам с любовью низкий поклон…» И вдруг вот так же внезапно напишут: «Сижу в одиночке. Через полчаса повесят». А защитник прибавит: «суд ходатайствовал, но Каульбарс не уважил». И мать станет пропадать от горя, у отца вынут сердце. За что? Они ли виноваты, что всюду вне их семьи свирепствует эпидемия «волнений и расстройств», вызванная, между прочим, и тем, что современный строй уже «не удовлетворяет стремлениям общества к правовому порядку…» Почему же за это так тяжко приходится расплачиваться матерям и отцам? Разве «отстала» одна только семья, а не государство?..
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽