Картинки в голове: И другие рассказы о моей жизни с аутизмом
Текст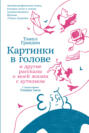


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 49,90 ₽
- Объем: 420 стр. 32 иллюстрации
- Жанр: зарубежная психология
Визуальное мышление и ментальные образы
Современные исследования пациентов с мозговыми повреждениями и данные нейровизуализации свидетельствуют о том, что за визуальное и за вербальное мышление отвечают разные структуры мозга. Измерение локального мозгового кровотока показывает, что, когда человек вызывает в своем воображении какой-либо зрительный образ, например знакомую дорогу, по которой он постоянно ходит, кровоснабжение зрительной коры головного мозга значительно усиливается, потому что этот участок начинает активно работать. Исследования пациентов с повреждениями левой затылочной доли мозга показывают, что они не способны переводить в зрительные образы информацию, хранящуюся в долговременной памяти, но при этом центры, отвечающие за речь и вербальную память, у них продолжают функционировать. Это лишний раз подтверждает, что зрительные образы и вербальное мышление подконтрольны разным структурам центральной нервной системы (ЦНС).
Система зрительных представлений может включать в себя в качестве отдельных подсистем ментальные образы и их ротацию. За второе отвечает правое полушарие, а за первое – затылочная доля левого. При аутизме система зрительных представлений предположительно становится шире, возможно, это некая компенсация речевого дефицита и неспособности мыслить последовательно. Вообще, при любых нарушениях мозг проявляет поразительные компенсаторные способности, когда один отдел берет на себя функции другого.
Согласно результатам экспериментов профессора Альваро Паскуаль-Леоне из Национального института здоровья США (NIH), тренировка визуализационного навыка часто приводит к изменениям карты двигательной области мозга. Картирование мозга с применением транскраниальной магнитной стимуляции показало, что у пианистов воображаемая игра на инструменте и упражнение за настоящим роялем выглядят на кортикальной карте совершенно одинаково. При этом если в ходе двухчасовых занятий, воображаемых или реальных, соответствующие кортикальные зоны активно расширяются, то бесцельное бренчание по клавишам такого эффекта не дает. При работе со спортсменами также отмечалось, что моторные навыки можно улучшить не только тренируясь, но и подробно представляя себе тренировочный процесс. Исследования пациентов с повреждениями гиппокампа наглядно демонстрируют, что механическим затверживанием и осознанным запечатлением в памяти каких-либо событий ведают разные неврологические системы. Человек может механически заучить какое-то действие и даже отточить его путем повторения, но осознанного воспоминания о том, что он делал, у него не отложится. Нейроны моторной коры удается обучить, но повреждение гиппокампа препятствует консолидации памяти. И получается, что мозг и мышцы учатся решать простейшую механическую задачу, усваивают какое-то движение, но мозг при этом не запоминает, что перед ним данная задача вообще когда-нибудь стояла. На практике движение вроде бы оттачивается, тем не менее все происходит как в первый раз.
Мне повезло: я могу пополнять свой мысленный видеоархив и потом, исходя из имеющихся в моем распоряжении образов, действовать по ситуации. Большинство аутичных людей ведут очень однообразную жизнь отчасти потому, что не в состоянии справиться с минимальным отклонением от ритуального поведения. Для меня же каждый новый опыт складывается из визуальных воспоминаний, сохранившихся от уже пережитого, поэтому мой мир продолжает расширяться.
Несколько лет назад в моей жизни произошел подлинный прорыв. Я получила предложение от мясоперерабатывающего комбината, где применялись изуверские методы забоя скота согласно законам кашрута[8]. Животное вздергивали на цепи за заднюю ногу и подвешивали вниз головой. Смотреть на это было невозможно. От рева и мычания насмерть перепуганной скотины было не спрятаться ни в офисе, ни на парковке. Иногда при подъеме нога, за которую тянули, под тяжестью туши просто ломалась. Варварство процедуры грубейшим образом попирало изначально гуманный принцип убоя по кашруту. Этой жестокости я должна была положить конец. Нужно было придумать станок, который при забое фиксировал бы животное стоя. Если резник – шойхет – действует по правилам, бычок остается спокойным и не успевает испугаться.
Сконструированный мною станок представлял собой узкое металлическое стойло на одну особь, оснащенное механическим зажимом для фиксации головы и опорной деталью для грудины, с регулируемой высотой. Специальные ворота не давали животному двигаться назад. Механическое управление осуществлялось с помощью шести рычагов гидравлического привода, на которые оператор нажимал в нужной последовательности, запирая вход и подстраивая шейный и грудной фиксаторы под размеры животного. Станки такого типа применялись в животноводстве более тридцати лет, но я добавила в базовую конструкцию регулирующие клапаны для изменения давления и скорректировала габариты, чтобы животному было удобнее и оно не подвергалось чрезмерному сдавливанию.
Перед техническими испытаниями станка на мясокомбинате я еще до отправки, прямо в мастерской, проверила его в действии. Бычка в моем распоряжении не было, но я смогла запечатлеть в зрительной и тактильной памяти работу фиксирующего устройства. После пяти минут управления пустым станком у меня в голове сложились подробные изображения того, как приводятся в действие и движутся все его механические части, а моя тактильная память сохранила ощущения отдачи рычагов гидравлического привода при нажатии. Гидравлические клапаны сродни клапанам духовых инструментов, один не похож на другой, их невозможно перепутать по ощущениям. Я помнила на ощупь, как ведет себя гидравлика в каждом конкретном случае. Эти испытания позднее позволили мне управлять фиксирующим станком в воображении. Для этого я должна была представить себе рычаги, потом свои руки на них и мысленно привести станок в действие. Я могла чувствовать, какое именно усилие требуется для того, чтобы запирать ворота с той или иной скоростью. Могла мысленно проиграть эту процедуру много раз с бычками разных пород и разной величины.
В первый же день испытаний на мясокомбинате я спокойно подошла к новому станку и смогла продемонстрировать его в деле практически без сучка без задоринки. Лучше всего работа шла, когда я орудовала рычагами не задумываясь, так же как неосознанно двигаю ногами при ходьбе. Стоило мне сосредоточиться на движении, я начинала путаться и жать не туда. Надо было заставить себя успокоиться и вообще забыть о рычагах, чтобы движение получалось органичным, словно механизм – это продолжение моего тела. Когда бычок заходил в аппарат, я сосредоточивалась только на одном: не напугать. Для этого все механические части должны были двигаться медленно и плавно. Я внимательно следила за реакцией животного. Главное – не переборщить с давлением, корпус и голову животного нужно было зажать плотно, но бережно. Если бычок вырывался или прижимал уши, мне было понятно, что я чересчур его стиснула. Животные чрезвычайно чувствительны к воздействию гидравлического оборудования, они реагируют на малейшее движение регулятора.
Я чувствовала станок как продолжение собственных рук. Закрывая у бычка на шее механический фиксатор, я словно брала его за лоб и нижнюю челюсть и бережно зажимала голову в нужном положении. О манипуляциях с рычагами я вообще не думала. Казалось, реальные границы моего тела исчезли, руки удлинились настолько, что задние ворота станка и шейный фиксатор стали их продолжением.
Аутичные люди часто испытывают сложности с осознанием границ своего тела. Они не в состоянии понять по ощущениям, где кончается тело и начинается стул, на котором они сидят, или предмет, который они держат в руках. Нечто похожее испытывает человек после ампутации, когда он продолжает чувствовать отнятую руку или ногу. В случае с фиксирующим станком все было точно так же: я чувствовала механизм как часть себя. Если удавалось сосредоточиться только на том, чтобы держать бычка как можно бережнее и не напугать его, все манипуляции шли как по маслу. Я была настолько сосредоточенна, что для меня перестали существовать посторонние шумы и палящий зной Алабамы. Я испытывала покой и безмятежность, как на религиозной церемонии. Мне полагалось заботливо держать животное, а шойхет одним движением совершал неизбежное. Я не отводила глаз, следила за каждым бычком, стремясь, чтобы в последние мгновения жизни ему было удобно и спокойно. Это был не убой, а ритуальное заклание, как требовал древний обычай. Передо мной отворилась новая дверь. Это было еще одно хождение по водам.
Дополнение
Исследование мозга и разные виды мышления
За десять лет, прошедшие с выхода первого издания «Картинок в голове», исследователи получили новые данные о том, как мозг человека с синдромом Аспергера или расстройством аутистического спектра формирует образы и обрабатывает полученную информацию. Нэнси Миншью из Университета Карнеги – Меллона в Питтсбурге удалось установить, что если обычный мозг стремится игнорировать детали и частности, то аутичный мозг, напротив, сосредоточен в первую очередь на деталях. В целях эксперимента разных испытуемых – среди них были нейротипичные люди, пациенты с синдромом Аспергера и с другими формами аутизма – попросили читать предложения. В ходе чтения проводилось сканирование их головного мозга. У аутичного мозга максимальная активность отмечалась в тех участках, где обрабатывались отдельные слова, у здорового – там, где происходил анализ всего предложения. При синдроме Аспергера были равно активны обе зоны. Эрик Куршен из Калифорнийского университета в Сан-Диего утверждает, что причиной аутизма может быть нарушение связей между глубинными лимбическими структурами мозга, где накапливается сенсорная информация, и префронтальной корой, где она обрабатывается. При этом нижележащие структуры сохранны и всячески развиваются, но нарушается способность мозга обобщать. Единственная область коры, сохраняющая при аутизме нормальное взаимодействие с «информационным хранилищем» в подкорке, – зрительная. Эти исследования дают научное объяснение моим «картинкам в голове». Сканирование префронтальной коры мозга человека с аутизмом выявило там избыток белого вещества. Если серое вещество обрабатывает информацию и позволяет нам мыслить, то соединяет отделы мозга между собой как раз белое вещество. Профессор Куршен уподобляет его «компьютерным проводам», по которым идет сигнал. При патологии белого вещества оно, вместо того чтобы спокойно развиваться и связывать между собой разные отделы и участки мозга, вдруг начинает увеличиваться в объеме, и наши чрезмерно длинные «компьютерные провода» образуют запутанные сплетения. В мозгу здорового человека за понимание прочитанного слова отвечает один участок, а слова сказанного – другой, но связи между этими участками обеспечивают их одновременное задействование в процессе обработки информации. И Миншью, и Куршен единодушно утверждают, что при расстройствах аутистического спектра основная проблема мозга заключается в неспособности синхронизировать деятельность отдельных его систем. При этом внутри системы все в порядке, внутренние связи на этом уровне могут даже превосходить норму, а вот «дистанционная» передача информации от одной системы к другой практически не осуществляется.
Чтобы лучше понять, как взаимодействуют друг с другом отделы мозга, воспользуемся визуальным символом. Представим себе здоровый мозг в виде большого офисного здания, принадлежащего крупной корпорации. Разные ее структуры – юридический отдел, отдел рекламы и маркетинга, отдел продаж, бухгалтерия, администрация, совет директоров – общаются между собой с помощью разных средств связи. К их услугам телефоны, факсы, электронная почта и всевозможные мессенджеры. Но, если перенести эту аналогию на мозг аутичного человека, мы увидим офисное здание, в котором коммуникации между некоторыми отделами не подключены. Нэнси Миншью обозначает это явление как дефицит мозговой проводимости. При этом синдром Аспергера предполагает подключение большего количества внутримозговых «средств связи», чем РАС с более глубокой степенью нарушений. Именно от наличия или отсутствия определенных «подключенных кабелей» и зависит разнообразие аутичных особенностей. Это же отсутствие информационных коммуникационных связей между отделами мозговой «корпорации» объясняет перекосы в развитии и способностях людей. Если продолжить аналогию с компьютерным кабелем, какому-то отделу мозга ограниченное количество исправно работающих «проводов» обеспечивает изолированное бесперебойное подключение, а остальные отделы сидят без связи, поэтому человек с расстройством аутистического спектра может в чем-то одном достигать успехов и абсолютно не справляться с чем-то другим.
Развитие способностей у людей с особенностями
Когда я написала первый вариант этой книги, мне казалось, что все люди с аутизмом обладают, подобно мне, визуальным мышлением. Опросив сотни аутичных людей, а также членов их семей, я пришла к выводу, что едины они только в том, что их сознание прежде всего фиксирует детали, но мозг с особенностями развития работает совсем не одинаково. По типу мышления можно выделить три основных категории аутичных людей. Кроме того, существуют еще и смешанные варианты.
«Визуалы»
К этой категории отношусь я сама. Мыслим мы фотографически-конкретными зрительными образами. Степень конкретики бывает разная; я, например, могу протестировать у себя в голове движущийся без перерыва механизм. «Визуалы» встречаются и среди нейротипичных людей, но тогда они мыслят неподвижными, застывшими изображениями. По своей специфике зрительные образы тоже могут быть разными: от картин конкретных мест до символов абстрактных понятий. Учиться мне было непросто: алгебра оказалась совершенно недоступной, иностранный язык давался с трудом. «Визуалы» с высокофункциональной формой расстройства аутистического спектра могут, проскочив алгебру, изучать более наглядные разделы математики, такие как тригонометрия или геометрия. Дети с РАС – «визуалы» часто одарены способностями к изобразительным искусствам, хорошо рисуют, лепят, строят сложные объекты из Lego. Они обожают карты, флаги, фотоcнимки. Им подойдут профессии чертежника, конструктора, специалиста по автоматизации или графическому дизайну, они смогут замечательно работать с животными, а также делать что-то руками, например ювелирные украшения.
«Композиторы и математики»
К ним относятся те, кто мыслит формами или схемами. Такие люди могут быть феноменально одарены способностями к музыке, математике, шахматам, компьютерному программированию. Некоторые из них объясняли мне, что в голове у них не видеоархив, а сложные системные формы или числа, которые взаимодействуют между собой. В детстве они проявляют большой интерес к музыке, подбирают и играют по слуху. Из них могут получиться программисты, химики, статистики, инженеры, физики и, разумеется, музыканты. Люди с таким типом мышления не слишком нуждаются в письменной речи. У древних инков, например, вся информация о налогах, бюджете, торговле, трудовых повинностях тысяч подданных империи содержалась на ки́пу – сложных веревочных сплетениях и узелках.
«Буквоеды-логики»
Они мыслят вербальными подробностями. Обожают историю, иностранные языки, метеорологическую статистику, биржевые ведомости и отчеты. В детстве могут проявлять недюжинные познания в спортивной статистике. В отличие от «визуалов» рисуют, как правило, плохо. С речевым развитием, которое у детей, относящихся к «визуалам» и «композиторам и математикам», происходит с некоторой задержкой, у детей-«буквоедов» все в порядке. Оно зачастую идет с опережением, и в будущем их профессиональная деятельность может быть связана со словами. Из них получаются отличные филологи, переводчики, журналисты, бухгалтеры, дефектологи, логопеды, библиотекари и архивариусы, а также финансовые аналитики.
Поскольку у детей с расстройствами аутистического спектра мышление носит специфический характер, важно при обучении не работать с их недостатками, а в первую очередь развивать их достоинства. Меня бесполезно было учить алгебре, потому что мне, как типичному «визуалу», для того чтобы мыслить, нужен зрительный образ. Нет картинки – нет мыслей, а более наглядными областями математики, такими как тригонометрия или геометрия, со мной, к сожалению, никто не занимался. Учителям и родителям надо работать над тем, чтобы одаренность или склонность у ребенка с РАС закрепилась в умениях и навыках, которые потом переросли бы в приносящую удовлетворение профессию или хобби.
Формирование абстрактного мышления
Людям с РАС независимо от того, какой тип мышления у них превалирует, сложно мыслить абстрактными категориями. Сознанию аутичного человека абстрактное мышление дается с трудом. Дело в том, что за подобное мышление отвечает префронтальная кора. Если вернуться к нашей аналогии с офисным зданием, префронтальная кора – это зал для заседаний совета директоров. Исследования показали, что ее недоразвитие приводит к нарушению исполнительных функций. У здорового человека на префронтальную кору замыкаются все без исключения «компьютерные кабели», связывающие с ней остальные отделы мозга, которые отвечают за когнитивные способности, а также за эмоциональное и сенсорное восприятие. Таким образом, поступающая по ним информация сводится воедино. Мне кажется, что степень восприимчивости мозга к абстрактным понятиям напрямую зависит от количества подключенных к префронтальной коре «кабелей». Мой «совет директоров» по большей части сидит без связи, поэтому мне, чтобы пользоваться отвлеченными категориями, нужно привязать к ним конкретные зрительные образы, и я вынуждена призывать на помощь «графических дизайнеров» из «отдела рекламы». Результаты исследований подтверждают мою правоту. Сейчас доказано, что подробные зрительные и музыкальные воспоминания хранятся в первичных модально-специфических зонах коры, зрительной или слуховой, абстрактным же мышлением ведают зоны взаимного перекрытия корковых систем анализаторов, которые обрабатывают информацию из разных отделов мозга.
Отправная точка для абстрактного мышления – способность к категоризации. Нэнси Миншью выяснила, что аутичные люди могут без труда классифицировать предметы по таким признакам, как «синий» или «красный», но объединить знакомые объекты в новую категориальную группу им сложно. Если разложить на столе карандаши, книги, степлеры, конверты, часы, шапки, мячи для гольфа и теннисную ракетку, а потом попросить аутичного человека отобрать предметы, сделанные из бумаги, он с этим справится. Но, если спросить его, на какие еще категории можно подразделить лежащие на столе вещи, он растеряется. Его мозг недостаточно гибок, он не умеет вводить новые категории. Над развитием этой способности должны работать педагоги, предлагая в игровой форме найти признак, единый для нескольких предметов: например, все, что содержит металлические элементы, или все, что связано со спортом. Важно также научить человека объяснять, на основании какого признака он отнес предмет к той или иной группе.
В детстве единственным признаком, по которому кошка для меня отличалась от собаки, был размер, но, стоило нашим соседям завести карликовую таксу, размер утратил эту роль, и мне пришлось учиться отличать собак от кошек на основе какой-то другой особенности, которая у собак есть, а у кошек отсутствует. У собаки, независимо от размера, очень характерный нос; у кошки он выглядит иначе. Но это пример категоризации не по языковому, а по сенсорному признаку. А можно поделить собак и кошек в зависимости от издаваемых ими звуков: одни лают, другие мяукают. Человек с низкофункциональной формой аутизма сможет различить их по запаху или на ощупь, для него источниками самой точной информации будут обоняние и осязание. Структурирование данных и распределение их по конкретным категориям – одна из основных прерогатив нервной системы. Опыты на пчелах, крысах, макаках показывают, что границы у этих категорий предельно четкие. Французские исследователи зарегистрировали сигналы, возникающие в префронтальной коре мозга макаки, когда животное следило за возникающими на мониторе компьютера изображениями собак, которые постепенно переходили в изображения кошек. Перемена на экране мгновенно приводила к изменениям сигнала мозга, то есть префронтальная кора по-разному реагировала на собаку и на кошку, четко различая их. Когда я не могла отличать кошек от собак по размеру, мозгу пришлось придумать новый категориальный критерий: форма носа.
Нейрохирург Ицхак Фрид из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установил, что определенные нейроны учатся реагировать на какую-то четкую категорию. Наблюдения за пациентами, перенесшими нейрохирургическую операцию на головном мозге, свидетельствуют, что один тип нейронов, например, реагирует исключительно на изображения пищи, другой – только на изображения животных, игнорируя изображения людей или предметов. У кого-то из пациентов отмечалась реакция нейронов в гиппокампе на фотографии конкретной киноактрисы в гриме или без грима, но при этом на снимки других женщин мозг никак не реагировал. Гиппокамп играет для мозга роль архивариуса, находящего в информационном хранилище нужные сведения.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽