Мой муж – Владимир Ленин
Текст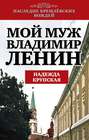


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 27,90 ₽
- Объем: 580 стр.
- Жанр: биографии и мемуары
Сношения с Владимиром Ильичем завязались очень быстро. В те времена заключенным в «предварилке» можно было передавать книг сколько угодно, они подвергались довольно поверхностному осмотру, во время которого нельзя было, конечно, заметить мельчайших точек в середине букв или чуть заметного изменения цвета бумаги в книге, где писалось молоком. Техника конспиративной переписки у нас быстро совершенствовалась. Характерна была заботливость Владимира Ильича о сидящих товарищах. В каждом письме на волю был всегда ряд поручений, касающихся сидящих: к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему «невесту», такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки, на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги и пр. Он переписывался с очень многими из сидящих товарищей, для которых эта переписка имела громадное значение. Письма Владимира Ильича дышали бодростью, говорили о работе. Получая их, человек забывал, что сидит в тюрьме, и сам принимался за работу. Я помню впечатление от этих писем (в августе 1896 г. я тоже села). Письма молоком приходили через волю в день передачи книг – в субботу. Посмотришь на условные знаки в книге и удостоверишься, что в книге письмо есть. В шесть часов давали кипяток, а затем надзирательница водила уголовных в церковь. К этому времени разрежешь письмо на длинные полоски, заваришь чай и, как уйдет надзирательница, начинаешь опускать полоски в горячий чай – письмо проявляется (в тюрьме неудобно было проявлять на свечке письма, вот Владимир Ильич додумался проявлять их в горячей воде), и такой бодростью оно дышит, с таким захватывающим интересом читается. Как на воле Владимир Ильич стоял в центре всей работы, так в тюрьме он был центром сношений с волей. Кроме того, он много работал в тюрьме. Там было подготовлено «Развитие капитализма в России». Владимир Ильич заказывал в легальных письмах нужные материалы, статистические сборники. «Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку, в Сибири книги доставать трудно», – в шутку говорил Владимир Ильич, когда его выпустили из тюрьмы. Не только «Развитие капитализма» писал Владимир Ильич в тюрьме, писал листки, нелегальные брошюры, написал проект программы для первого съезда (он состоялся лишь в 1898 г., но намечался раньше), высказывался по вопросам, обсуждавшимся в организации. Чтобы его не накрыли во время писания молоком, Владимир Ильич делал из хлеба маленькие молочные чернильницы, которые – как только щелкнет фортка – быстро отправлял в рот. «Сегодня съел шесть чернильниц», – в шутку добавлял Владимир Ильич к письму.
Но как ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя в рамки определенного режима, а нападала, очевидно, и на него тюремная тоска. В одном из писем он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы – я и Аполлинария Александровна Якубова – в определенный час пришли и стали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аполлинария почему-то не могла пойти, а я несколько дней ходила и простаивала подолгу на этом кусочке. Только что-то из плана ничего не вышло, не помню уже отчего.
Пока Владимир Ильич сидел, работа на воле разрасталась, стихийно росло рабочее движение. После ареста Мартова, Ляховского и др. силы группы еще более ослабели. Правда, в группу входили новые товарищи, но это была публика уже менее идейно закаленная, а учиться уже было некогда, движение требовало обслуживания, требовало массы сил, все уходило на агитацию, о пропаганде некогда было и думать. Листковая агитация имела большой успех. Стачка 30 тысяч питерских текстилей, разразившаяся летом 1896 г., прошла под влиянием социал-демократов и многим вскружила голову.
Помню, как однажды (кажется, в начале августа) на собрании в лесу, в Павловске, Сильвин читал вслух проект листка.
В одном месте там попалась фраза, прямо ограничивающая рабочее движение одной экономической борьбой. Прочтя ее вслух, Сильвин остановился. «Ну и загнул же я, как это меня угораздило», – сказал он, смеясь. Фраза была вычеркнута. Летом 1896 г. с треском провалилась Лахтинская типография, пропала возможность печатать брошюры, пришлось надолго отложить попечение о журнале.
Во время стачки 1896 г. в нашу группу вошла группа Тахтарева, известная под кличкой Обезьяны, и группа Чернышева, известная под кличкой Петухи Но пока «декабристы» сидели в тюрьме и держали связь с волей, работа шла еще по старому руслу. Когда Владимир Ильич вышел из тюрьмы[17], я еще сидела. Несмотря на чад, охватывающий человека по выходе из тюрьмы, на ряд заседаний, Владимир Ильич ухитрился все же написать письмишко о делах. Мама рассказывала, что он в тюрьме поправился даже и страшно весел[18].
Меня выпустили вскоре после «ветровской истории» (заключенная Ветрова сожгла себя в Петропавловской крепости). Жандармы выпустили целый ряд сидевших женщин, выпустили и меня и оставили до окончания дела в Питере, приставив пару шпионов, ходивших всюду по стопам. Я застала организацию в самом плачевном состоянии. Из прежних работников остался только Степан Ив. Радченко и его жена. Сам он работы по конспиративным условиям уже вести не мог, но продолжал быть центром и держал связь. Держал связь и со Струве. Струве вскоре женился на Н.А. Герд, социал-демократке, Струве и сам в то время был социал-демократствующим. Он совершенно не был способен к работе в организации, тем более подпольной, но ему льстило, несомненно, что к нему обращаются за советами. Он даже написал манифест для I съезда социал-демократической рабочей партии. Зиму 1897/98 г. я довольно часто бывала у Струве с поручениями от Владимира Ильича – тогда Струве издавал журнал «Новое слово», – да и так с Ниной Александровной меня многое связывало. Я приглядывалась к Струве. Он в то время был социал-демократом, но меня удивляла его книжность и почти полное отсутствие интереса к «живому дереву жизни», интереса, которого так много было у Владимира Ильича. Струве достал мне перевод и взялся его редактировать. Он, видимо, тяготился этой работой, быстро уставал (с Владимиром Ильичем мы часами сидели за аналогичной работой. Владимир Ильич совсем иначе работал, весь уходя в работу, даже такую, как перевод). Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это неверно. Фет – махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действительно любил Фета.
Знала я и Туган-Барановского. Я училась вместе с его женой, Лидией Карловной Давыдовой (дочерью издательницы журнала «Мир божий»), и одно время захаживала к ним. Лидия Карловна была очень умная и хорошая, хотя и безвольная женщина. Она была умнее своего мужа. В его разговорах всегда чувствовался чужой человек. Раз я обратилась к нему с подписным листом на стачку (костромскую, кажется). Я получила сколько-то, не помню сколько, рублей, но должна была выслушать рассуждение на тему: «Непонятно-де, почему надо поддерживать стачки, – стачка недостаточно действительное средство борьбы с предпринимателями». Я взяла деньги и поторопилась уйти.
Я писала Владимиру Ильичу в ссылку обо всем, что приходилось видеть и слышать. Однако о работе организации мало чего можно было написать. Ко времени I съезда в ней было лишь четыре человека: Ст. Ив. Радченко, его жена Любовь Николаевна, Саммер и я. Делегатом от нас был Степан Иванович. Но, вернувшись со съезда, он ничего почти не рассказал нам о том, что там произошло, вынул из корешка книги хорошо знакомый нам «манифест», написанный Струве и принятый съездом, и разрыдался: все почти участники съезда – их было несколько человек – были арестованы[19].
Мне дали три года Уфимской губернии, я перепросилась в село Шушенское Минусинского уезда, где жил Владимир Ильич, для чего объявилась его «невестой».
В ссылке. 1898–1901 гг
В Минусинск, куда я ехала на свой счет, поехала со мной моя мать[20]. Приехали мы в Красноярск 1 мая 1898 г., оттуда надо было ехать на пароходе вверх по Енисею, но пароходы еще не ходили. В Красноярске познакомилась с народоправцем Тютчевым и его женой, которые, как люди опытные в этих делах, устроили мне свидание с проезжавшей через Красноярск партией ссыльных социал-демократов; в их числе были товарищи по одному со мною делу – Ленгник и Сильвин. Солдаты, приведя ссыльных в фотографию, сели в сторонку и жевали хлеб с колбасой, которыми их угостили.
В Минусинске зашла к Аркадию Тыркову – первомартовцу, сосланному в Сибирь без срока, чтобы передать поклон от его сестры, моей гимназической подруги. Заходила к Ф.Я. Кону, польскому товарищу, осужденному в 1885 г. на каторгу по делу «Пролетариата», много перенесшему в тюрьме и ссылке, он был для меня окружен ореолом старого непримиримого революционера, – ужасно он мне понравился.
В село Шушенское, где жил Владимир Ильич, мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте. Мы выгрузились, нас провели в избу. В Сибири – в Минусинском округе – крестьяне очень чисто живут, полы устланы пестрыми самоткаными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната Владимира Ильича была хоть невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева[21] уступили остальную часть избы. В избу набились все хозяева и соседи и усердно нас разглядывали и расспрашивали. Наконец, вернулся с охоты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате свет. Хозяин сказал, что это Оскар Александрович (ссыльный питерский рабочий) пришел пьяный и все книги у него разбросал. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я ему навстречу из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь.
В Шушенском из ссыльных было только двое рабочих – лодзинский социал-демократ, шляпочник, поляк Проминский с женой и шестью ребятами и путиловский рабочий Оскар Энгберг, финн по национальности. Оба – очень хорошие товарищи. Проминский был спокойным, уравновешенным и очень твердым человеком. Он мало читал и не много знал, но обладал замечательно ярко выраженным классовым инстинктом. К своей верующей тогда еще жене он относился спокойно-насмешливо. Он очень хорошо пел польские революционные песни «Ludu rоbосzу, роznаj swоje silу», «Рierwszу mаj»[22] и целый ряд других. Дети подпевали ему, присоединялся к хору и Владимир Ильич, очень охотно и много певший в Сибири. Пел Проминский и русские революционные песни, которым учил его Владимир Ильич. Проминский собирался назад в Польшу на работу и погубил несметное количество зайчишек, чтобы заготовить мех на шубки детям. Но добраться до Польши ему так и не удалось. Перебрался с семьей только поближе к Красноярску и служил на железной дороге. Дети выросли. Сам он стал коммунистом, коммунисткой стала пани Проминская, коммунистами стали дети. Один убит на войне. Другой чуть не погиб во время гражданской войны, теперь в Чите. Только в 1923 г. выбрался Проминский в Польшу, но по дороге умер от сыпного тифа.
Другой рабочий, Оскар, был совсем иного типа. Молодой, он был сослан за забастовку и за буйное поведение во время нее. Он много читал всякой всячины, но о социализме имел самое смутное представление. Раз приходит из волости и рассказывает: «Новый писарь приехал, сошлись мы с ним в убеждениях». – «То есть?» – спрашиваю. «Да и он, и я против революции». Мы с Владимиром Ильичем так и ахнули. На другой день я засела с ним за «Коммунистический манифест» (приходилось переводить с немецкого) и, одолев его, перешли к чтению «Капитала». Зашел как-то на занятия Проминский, сидит и посасывает трубочку. Я предлагаю какой-то вопрос по поводу прочитанного. Оскар не знает, что сказать, а Проминский спокойно так, улыбаючись, ответил на вопрос. На целую неделю бросил Оскар занятия. Но так парень хороший был. Больше ссыльных в Шушенском не было. Владимир Ильич рассказывал, что он пробовал завести знакомство с учителем, но ничего не вышло. Учитель тянул к местной аристократии: попу, паре лавочников. Дулись они в карты и выпивали. К общественным вопросам интереса у учителя никакого не было. С этим учителем постоянно препирался старший сын Проминского, Леопольд, тогда уже сочувствовавший социалистам.
Был у Владимира Ильича один знакомый крестьянин, которого он очень любил, Журавлев. Чахоточный, лет тридцати, Журавлев был раньше писарем. Владимир Ильич говорил про него, что он по природе революционер, протестант. Журавлев смело выступал против богатеев, не мирился ни с какой несправедливостью. Он все куда-то уезжал и скоро помер от чахотки.
Другой знакомый Ильича был бедняк, с ним Владимир Ильич часто ходил на охоту. Это был самый немудрый мужичонка – Сосипатычем его звали; он, впрочем, очень хорошо относился к Владимиру Ильичу и дарил ему всякую всячину: то журавля, то кедровых шишек.
Через Сосипатыча, через Журавлева Владимир Ильич изучал сибирскую деревню. Он мне рассказывал как-то об одном своем разговоре с зажиточным мужиком, у которого он жил. У того батрак украл кожу. Мужик накрыл его у ручья и прикончил. Говорил Ильич по этому поводу о беспощадной жестокости мелкого собственника, о беспощадной эксплуатации им батраков. И правда, как каторжные, работали сибирские батраки, отсыпаясь только по праздникам.
И еще был у Ильича способ изучать деревню. По воскресеньям он завел у себя юридическую консультацию. Он пользовался большой популярностью как юрист, так как помог одному рабочему, выгнанному с приисков, выиграть дело против золотопромышленника. Весть об этом выигранном деле быстро разнеслась среди крестьян. Приходили мужики и бабы и излагали свои беды. Владимир Ильич внимательно слушал и вникал во все, потом советовал. Раз пришел крестьянин за двадцать верст посоветоваться, как бы ему засудить зятя за то, что тот не позвал его на свадьбу, где здорово гуляли. «А теперь зять поднесет, если приедете к нему?» – «Теперь-то поднесет». И Владимир Ильич чуть не час убил, пока уговорил мужика с зятем помириться. Иногда совершенно нельзя было разобраться по рассказам, в чем дело, и потому Владимир Ильич всегда просил приносить ему копию с дела. Раз бык какого-то богатея забодал корову маломощной бабы. Волостной суд приговорил владельца быка заплатить бабе десять рублей. Баба опротестовала решение и потребовала «копию» с дела. «Что тебе, копию с белой коровы, что ли?» – посмеялся над ней заседатель. Разгневанная баба прибежала жаловаться Владимиру Ильичу. Часто достаточно было угрозы обижаемого, что он пожалуется Ульянову, чтобы обидчик уступил.
Сибирскую деревню хорошо изучил Владимир Ильич, – он знал раньше деревню приволжскую. Рассказывал Ильич раз: «Мать хотела, чтобы я хозяйством в деревне занимался. Я начал, было, да вижу – нельзя, отношения с мужиками ненормальные становятся».
Собственно говоря, заниматься юридическими делами Владимир Ильич не имел права, как ссыльный, но тогда времена в Минусинском округе были либеральные. Никакого надзора фактически не было.
«Заседатель» – местный зажиточный крестьянин – больше заботился о том, чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы «его» ссыльные не сбежали. Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое «жалованье» – восьмирублевое пособие – имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья – и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват – одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест – покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича и для его собаки, прекрасного гордона – Женьки, которую он выучил и поноску носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей науке. Так как у Зыряновых мужики часто напивались пьяными, да и семейным образом жить там было во многих отношениях неудобно, мы перебрались вскоре на другую квартиру – полдома с огородом наняли за четыре рубля[23] Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству. И мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. Потом привыкла. В огороде выросла у нас всякая всячина – огурцы, морковь, свекла, тыква; очень я гордилась своим огородом. Устроили из двора сад – съездили мы с Ильичем в лес, хмелю привезли, сад соорудили. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство. Я выучила ее грамоте, и она украшала стены мамиными директивами: «Никовды, никовды чай не выливай», вела дневник, где отмечала: «Были Оскар Александрович и Проминский. Пели «Пень», я тоже пела».
Помню, как мы встречали Первое мая[24].
Утром пришел к нам Проминский. Он имел сугубо праздничный вид, надел чистый воротничок и сам весь сиял, как медный грош. Мы очень быстро заразились его настроением и втроем пошли к Энгбергу, прихватив с собою собаку Женьку. Женька бежала впереди и радостно тявкала. Идти надо было вдоль речки Шуши. По реке шел лед. Женька забиралась по брюхо в ледяную воду и вызывающе лаяла по адресу мохнатых шушенских сторожевых собак, не решавшихся войти в такую холодную воду.
Оскар заволновался нашим приходом Мы расселись в его комнате и принялись дружно петь:
День настал веселый мая,
Прочь с дороги, горя тень!
Песнь, раздайся удалая!
Забастуем в этот день!
Полицейские до пота
Правят подлую работу.
Нас хотят изловить.
За решетку посадить.
Мы плюем на это дело,
Май отпразднуем мы смело,
Вместе разом, Гоп-га! Гоп-га!
Спели по-русски, спели ту же песню по-польски и решили пойти после обеда отпраздновать Май в поле. Как наметили, так и сделали. В поле нас было больше, уже шесть человек, так как Проминский захватил своих двух сынишек. Проминский продолжал сиять. Когда вышли в поле на сухой пригорок, Проминский остановился, вытащил из кармана красный платок, расправил его на земле и встал на голову. Дети завизжали от восторга. Вечером собрались все у нас и опять пели. Пришла и жена Проминского. К хору присоединились и моя мать и Паша.
А вечером мы с Ильичем как-то никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие…
Появился детский элемент. Во дворе жил поселенец – латыш-катанщик[25]. Было у него 14 детей, но выжил один, Минька. Отец был горький пьяница. Было Миньке шесть лет, было у него прозрачное бледное личико, ясные глазки и серьезный разговор. Стал он бывать у нас каждый день – не успеешь встать, а уж хлопает дверь, появляется маленькая фигурка в большой шапке, материной теплой кофте, закутанная шарфом, и радостно заявляет: «А вот и я». Знает, что души в нем не чаяла моя мама, что всегда пошутит и повозится с ним Владимир Ильич. Забежит Минькина мать.
«Миничка, не видал ты рубля?» – «Видел, ну, посмотрел, валяется на столе, положил в коробку».
Когда мы уехали, захворал с горя Миняй. Теперь нет его уже в живых, а катанщик писал, просил отвести ему земли за Енисеем, «хочется на старости лет сытно пожить».
Наше хозяйственное обрастание все увеличивалось – завели котенка.
С утра мы брались с Владимиром Ильичем за перевод Вебба[26], который достал мне Струве. После обеда часа два переписывали в две руки «Развитие капитализма». Потом другая всякая работешка была. Как-то прислал Потресов на две недели книжку Каутского против Бернштейна[27], мы побросали все дела и перевели ее в срок – в две недели. Поработав, закатывались на прогулки. Владимир Ильич был страстным охотником, завел себе штаны из чертовой кожи и в какие только болота не залезал. Ну, дичи там было! Я приехала весной, удивлялась. Придет Проминский – он страстно любил охоту – и, радостно улыбаясь, говорит: «Видел – утки прилетели». Приходит Оскар и тоже об утках. Часами говорили, а на следующую весну я сама уже стала способна толковать о том, где, кто, когда видел утку. После зимних морозов буйно пробуждалась весной природа. Сильна становилась власть ее. Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или – стоишь на опушке леса, бурлит речонка, токуют тетерева. Владимир Ильич идет в лес, просит подержать Женьку. Держишь ее, Женька дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы. Владимир Ильич был страстным охотником, только горячился очень. Осенью идем по далеким просекам. Владимир Ильич говорит: «Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять, ремня не взял, неудобно будет нести». Выбегает заяц, Владимир Ильич палит.
Позднею осенью, когда по Енисею шла шуга (мелкий лед), ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют. С острова деться некуда, бегают, как овцы, кругом. Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники.
Живучи в Москве, Владимир Ильич тоже охотился иногда последние годы, но охотничий жар у него уж значительно поубыл. Устроили раз охоту на лис, с флажками. Все предприятие очень заинтересовало Владимира Ильича. «Хитро придумано», – говорил он. Устроили охотники так, что лиса выбежала прямо на Владимира Ильича, а он схватился за ружье, когда лиса, постояв с минуту и поглядев на него, быстро повернула в лес. – «Что же ты не стрелял?» – «Знаешь, уж очень красива она была».
Поздней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по протоке – каждый камешек, каждая рыбешка видны подо льдом, точно волшебное царство какое-то. А зимой, когда замерзает ртуть в градусниках и реки промерзают до дна, вода идет сверх льда и быстро покрывается ледком, можно было катить на коньках версты по две по гнущейся под ногами наледи. Все это страшно любил Владимир Ильич.
По вечерам Владимир Ильич обычно читал книжки по философии – Гегеля, Канта, французских материалистов, а когда очень устанет – Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
Когда Владимир Ильич впервые появился в Питере и я его знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича Радченко: Владимир Ильич только серьезные книжки читает, в жизнь не прочел ни одного романа. Я подивилась; потом, когда мы познакомились ближе с Владимиром Ильичем, как-то ни разу об этом не заходил у нас разговор, и только в Сибири я узнала, что все это чистая легенда. Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, «Что делать?» Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу – переиздание в дешевых выпусках классиков. В альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родных и старых каторжан, были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского[28].
Два раза в неделю приходила почта. Переписка была обширная.
Приходили письма и книги из России. Писала подробно обо всем Анна Ильинична, писали из Питера. Писала, между прочим, Нина Александровна Струве мне о своем сынишке: «Уже держит головку, каждый день подносим его к портретам Дарвина и Маркса, говорим: поклонись дедушке Дарвину, поклонись Марксу, он забавно так кланяется». Получали письма из далекой ссылки – из Туруханска от Мартова, из Орлова Вятской губернии от Потресова.
Но больше всего было писем от товарищей, разбросанных по соседним селам. Из Минусинска (Шушенское было в 50 верстах от него) писали Кржижановские, Старков; в 30 верстах в Ермаковском жили Лепешинский, Ванеев, Сильвин, Панин – товарищ Оскара; в 70 верстах в Теси жили Ленгник, Шаповал, Барамзин, на сахарном заводе жил Курнатовский.
Переписывались обо всем – о русских вестях, о планах на будущее, о книжках, о новых течениях, о философии. Переписывались и по шахматным делам, особенно с Лепешинским. Играли по переписке. Расставит шахматы Владимир Ильич и соображает. Одно время так увлекался, что вскрикивал даже во сне: «Если он конем сюда, то я турой туда».
И Владимир Ильич и Александр Ильич с детства играли с большим азартом в шахматы. Играл и отец Владимира Ильича.
«Сначала отец нас обыгрывал, – рассказывал Владимир Ильич, – потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз – мы наверху жили – встретил отца, идет из нашей комнаты со свечой в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел».
По возвращении в Россию Владимир Ильич бросил игру в шахматы. «Шахматы чересчур захватывают, это мешает работе». А так как Владимир Ильич ничего не умел делать наполовину, не отдаваясь делу со всей страстью, то и на отдыхе и в эмиграции неохотно уже садился играть в шахматы.
Владимир Ильич с ранней молодости умел отбрасывать то, что мешало. «Когда был гимназистом, стал увлекаться коньками, но уставал, после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, бросил».
«Одно время, – рассказывал другой раз Владимир Ильич, – я очень увлекался латынью». – «Латынью?» – удивилась я. «Да, только мешать стало другим занятиям, бросил». Недавно только, читая «Леф»[29], где разбирался стиль, строение речи Владимира Ильича, указывалось на сходство конструкции фразы у Владимира Ильича с конструкцией фраз римских ораторов, на сходство ораторских приемов, я поняла, почему мог увлекаться Владимир Ильич, изучая латинских писателей.
С товарищами по ссылке не только переписывались, иногда, хотя не часто, виделись.
Раз мы ездили к Курнатовскому[30]. Был он очень хорошим товарищем, очень образованным марксистом, но тяжко сложилась его жизнь. Суровое детство с извергом-отцом, потом ссылка за ссылкой, тюрьма за тюрьмой. На воле почти не работал, через месяц-другой влетал на долгие годы, жизни не знал. Осталась в памяти одна сценка. Идем мимо сахарного завода, где он служил. Идут две девочки – одна постарше, другая маленькая. Старшая несет пустое ведре, младшая – со свеклой. «Как не стыдно, большая заставляет нести маленькую», – сказал старшей девочке Курнатовский. Та только недоуменно посмотрела на него. Ездили мы еще в Тесь[31]. Пришло как-то раз письмо от Кржижановских – «Исправник злится на тесинцев за какой-то протест и никуда не пускает. В Теси есть гора, интересная в геологическом отношении, напишите, что хотите ее исследовать». Владимир Ильич в шутку написал исправнику заявление, прося не только его пустить в Тесь, но в помощь ему и жену. Исправник прислал разрешение нарочным. Наняли двуколку с лошадью за три рубля – баба уверяла, что конь сильный, не «жоркий», овса ему мало надо – и покатили в Тесь. И хоть не «жоркий», конь стал у нас посередь дороги, но все же до Теси мы добрались. Владимир Ильич с Ленгником толковали о Канте, с Барамзиным – о казанских кружках; Ленгник, обладавший прекрасным голосом, пел нам; вообще от этой поездки осталось какое-то особенно хорошее воспоминание.
Ездили пару раз в Ермаковское. Раз для принятия резолюции по поводу «Кредо»[32] – Ванеев был тяжко болен туберкулезом, умирал. Его кровать вынесли в большую комнату, где собрались все товарищи. Резолюция была принята единогласно.
Другой раз ездили туда же, уже хоронить Ванеева[33].
Из «декабристов» (так в шутку называли товарищей, арестованных в декабре 1895 г.) двое скоро выбыли из строя: сошедший в тюрьме с ума Запорожец и тяжко захворавший там Ванеев погибли, когда только-только еще начинало разгораться пламя рабочего движения.
На Новый год ездили в Минусу, куда съехались все ссыльные социал-демократы.
Были в Минусе и ссыльные народовольцы: Кон, Тырков и др., но они держались отдельно. Старики относились к социал-демократической молодежи недоверчиво: не верили в то, что это настоящие революционеры. На этой почве незадолго до моего приезда в село Шушенское в Минусинском уезде разыгралась ссыльная история. Был в Минусе ссыльный, социал-демократ Райчин, заграничник, связанный с группой «Освобождение труда». Он решил бежать. Достали ему денег на побег, дня побега не было назначено. Но Райчин, получив деньги, пришел в очень нервное состояние и, не предупредив никого, бежал. Старики-народовольцы обвиняли социал-демократов, что те знали о побеге Райчина, но их, стариков, не предупредили, могли быть обыски, а они не почистились. «История» росла, как снежный ком. Когда я приехала, Владимир Ильич рассказал мне про нее. «Нет хуже этих ссыльных историй, – говорил он, – они страшно затягивают, у стариков нервы больные, ведь чего только они не пережили, каторгу перенесли. Нельзя давать засасывать себя таким историям – вся работа впереди, нельзя себя растрачивать на эти истории». И Владимир Ильич настаивал на разрыве со стариками. Помню собрание, на котором произошел разрыв. Решение о разрыве было принято раньше, надо было провести его по возможности безболезненно. Рвали потому, что надо было порвать, но рвали без злобы, с сожалением. Так потом и жили врозь.
В общем, ссылка прошла неплохо. Это были годы серьезной учебы. По мере того как приближался срок окончания ссылки, все больше и больше думал Владимир Ильич о предстоящей работе. Из России вести приходили скупо: там рос и креп «экономизм», партии на деле не было, типографии в России не было, попытка наладить издательство через Бунд не удалась. Между тем ограничиваться писанием популярных брошюр и не высказываться по основным вопросам ведения работы было более невозможно. В работе был величайший разброд, постоянные аресты делали невозможной всякую преемственность, люди договорились до «Кредо», до идей «Рабочей мысли», помещавшей корреспонденции распропагандированного экономистами рабочего, писавшего: «Не надо нам, рабочим, никаких Марксов и Энгельсов…»
Л. Толстой где-то писал, что едущий первую половину дороги обычно думает о том, что он оставил, а вторую – о том, что ждет его впереди. Так и в ссылке. Первое время больше подводились итоги прошлого. Во второй половине больше думалось о том, что впереди. Владимир Ильич все пристальнее и пристальнее думал о том, что нужно делать, чтобы вывести партию из того состояния, в которое она пришла, что нужно делать, чтобы направить работу по надлежащему руслу, чтобы обеспечить правильное социал-демократическое руководство ею. С чего начать? В последний год ссылки зародился у Владимира Ильича тот организационный план, который он потом развил в «Искре», в брошюре «Что делать?»[34] и в «Письме к товарищу»[35]. Начать надо с организации общерусской газеты, поставить ее надо за границей, как можно теснее связать ее с русской работой, с российскими организациями, как можно лучше наладить транспорт. Владимир Ильич перестал спать, страшно исхудал. Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех деталях, обсуждал его с Кржижановским, со мной, списывался о нем с Мартовым и Потресовым, сговаривался с ними о поездке за границу. Чем дальше, тем больше овладевало Владимиром Ильичем нетерпение, тем больше рвался он на работу. А тут еще нагрянули с обыском. Перехватили у кого-то квитанцию письма Ляховского к Владимиру Ильичу. В письме была речь о памятнике Федосееву, жандармы придрались к случаю, чтобы учинить обыск. Обыск произведен был в мае 1899 г.[36] Письмо они нашли, оно оказалось очень невинным, пересмотрели переписку – и тоже ничего интересного не нашли. По старой питерской привычке нелегальщину и нелегальную переписку мы держали особо. Правда, она лежала на нижней полке шкафа. Владимир Ильич подсунул жандармам стул, чтобы они начали обыск с верхних полок, где стояли разные статистические сборники – и они так умаялись, что нижнюю полку и смотреть не стали, удовлетворившись моим заявлением, что там лишь моя педагогическая библиотека. Обыск сошел благополучно, но боязно было, чтобы не воспользовались предлогом и не накинули еще несколько лет ссылки. Побеги были еще тогда не так обычны, как позднее, – во всяком случае, это бы осложнило дело. Ведь прежде, чем ехать за границу, нужно было провести большую организационную работу в России. Дело, однако, обошлось благополучно – срока не набавили.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽