Знакомьтесь, литература! От Античности до Шекспира
Текст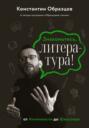


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 54,90 ₽
- Объем: 760 стр. 200 иллюстраций
- Жанр: литературоведение
Одиссея
«Троянская война окончена.
Кто победил – не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки…
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни…»[14].
В мире сегодняшней популярной культуры, где, стремясь упорядочить дурное изобилие художественных продуктов, любят объединять их в циклы и серии, «Одиссею» назвали бы продолжением «Илиады», вторым сезоном или вовсе – спин-офф о приключениях одного из героев. Античность не знала ни сериалов, ни продолжений, но по каким-то причинам «Одиссея» всегда оставалась вторичной по отношению к «Илиаде». Безусловно, она воспринималась как великая эпическая поэма, аэды читали ее на общественных праздниках, в школах дети, обучаясь грамоте, переписывали стихи из «Одиссеи» на глиняные таблички, но все же она была и сейчас остается произведением, упоминаемым исключительно после союза «и».
После того, как в 1488 году во Флоренции впервые издали инкунабулы[15] «Илиады» и «Одиссеи», эпические поэмы Гомера получили новую жизнь и активно интегрировались в бурный литературный процесс Ренессанса. «Одиссея» в не меньшей, а возможно, даже в большей степени, чем «Илиада», послужила источником вдохновения и ярких образов для европейской культуры: циклопы и лотофаги, Пенелопа с ее навязчивыми женихами, Сцилла и Харибда, и превратившая моряков в стадо свиней Цирцея, наконец, и сам Одиссей (рим. Улисс), ставший вечным символом героя-скитальца, чьи странствия легли в основу сюжета знаменитого модернистского эпоса «Улисс» Джеймса Джойса – каждый знает или слышал хотя бы о чем-то из перечисленного.

Цирцея и спутники Улисса (Одиссея). XVI в. Офорт по Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола) (1503–1540)
По форме «Одиссея» не отличается от «Илиады»: здесь тот же размашистый шестистопный дактиль или гекзаметр, та же эпическая подробность, те же повторы, сопровождающие каждое действие боги, постоянные эпитеты и богатая метафоричность. Впрочем, внимательный русскоязычный читатель все же почувствует разницу. Классический перевод «Одиссеи» на русский язык исполнил Василий Андреевич Жуковский; его поэтическое переложение увидело свет в 1849 году, на двадцать лет позже «Илиады» в переводе Гнедича. Яркий поэтический дар и масштаб творческой личности Жуковского, одного из самых известных русских поэтов «золотого века» отечественной литературы, несравнимы со скромными достижениями Гнедича, который вошел в историю почти исключительно как переводчик. Однако работа Жуковского над переложением гомеровского эпоса была воспринята многими современниками довольно сдержанно: критики отмечали, что, несмотря на поэтическую безупречность формы, его «Одиссея» в большей степени авторская интерпретация, нежели аутентичный источнику перевод. Собственно, и сам Жуковский не скрывал своего намерения не только представить публике свой перевод «Одиссеи», но впоследствии и улучшить «Илиаду» Гнедича, избавив ее от некоторых, по его мнению, неудачных фрагментов. Состоявшийся, самобытный поэт, самый значительный из русских романтиков, Жуковский воспринимал мир Гомера через призму собственного творческого видения, и живая яркая сочность, которую лишь подчеркивали архаические конструкции Гнедича, сменилась в его переводе пасторальной мягкостью слога, более приличествующего для передачи «беспрестанной идиллии» и «несказанной прелести», которые так восхищали Жуковского в его собственной картине античности.
На мой вкус, его «Одиссее» не хватает страсти и нерва, разменянных на некоторую приторность речи. Гомер Гнедича наговорил на «18+», Гомера Жуковского вполне можно пускать к школьникам – даже когда его герои спорят друг с другом или дело доходит до драки. Никаких тебе «бесстыдных псиц» и «винопийцы с сердцем еленя»; самое сильное выражение, которое позволяют себе персонажи – «необузданный», «влагалище» решительно изгнано и заменено «ножнами», а свирепая бойня в финале описана так, словно рассказчик морщится, прикрывшись ладошкой:
«Острою медью в живот пораженный, лицом он, со всех ног
Грянувшись, об пол ударился, жалобно охнул и умер».
Впрочем, это субъективный взгляд, который вовсе не обязательно разделят читатели, не заметившие разницы в стилистике Гнедича и Жуковского.
Гораздо больше отличий у двух поэм в принципах построения сюжета и приемах повествования. В «Илиаде» оно организовано вокруг двойного нравственного конфликта: межличностного, между оскорбленным Ахиллом и оскорбившем его Агамемноном, и внутреннего конфликта самого Ахиллеса, проживающего разрушительную обиду и приходящего к отказу от гнева и примирению не только с вождем ахейцев, но и с царем Трои Приамом. Гнев Ахилла – сюжетный стержень, на котором держится все действие, все сражения и распри богов; когда он избыт, произведение подходит к концу.
В «Одиссее» нет ничего подобного. Здесь все внимание обращено исключительно на повествование о событиях; можно даже сказать, что в этом смысле «Одиссея» в большей степени соответствует классическому понятию эпоса, чем «Илиада», и вместо истории частного конфликта на фоне войны нам предлагается развернутое эпическое полотно, протянувшееся от Дарданелл до Балеарских островов и охватывающее целое десятилетие. В «Илиаде» Гомер использует вполне современный прием быстрого погружения читателя в центр событий, меняя местами завязку и экспозицию, но потом сюжет развивается линейно и традиционно. В «Одиссее» мы увидим значительно более сложную повествовательную модель.
Рассказ начинается с описания разговора богов на Олимпе, своего рода «пролог на небесах», как в «Фаусте» Гете. Любопытно, что Зевс рассуждает о событиях, связанных с судьбой знакомого нам Агамемнона, изложенных в «Орестее» Эсхила; Афина в ответ напоминает царю богов про Одиссея: мы узнаем, что он вот уже десять лет не может добраться домой, мыкаясь по всему Средиземноморью, а ныне и вовсе находится в плену у нимфы Калипсо, которая удерживает его у себя на острове, принуждая жениться.
Оказывается, что Зевс совершенно забыл про злополучного Одиссея; царь богов соглашается, что пора уже положить конец его скитаниям, и посылает Гермеса на остров Каллисто, а Афина отправляется на Итаку, где Одиссея до сих пор ждет верная жена Пенелопа и сын Телемах – тот самый новорожденный младенец, которого некогда Паламед положил на пути запряженного плуга, чтобы вынудить Одиссея пойти на войну, и который ныне стал уже двадцатилетним юношей.
Дела на Итаке обстоят так себе: вот уже больше трех лет дом Пенелопы осаждают навязчивые женихи, требующие, чтобы одинокая царица непременно вышла за одного из них замуж. Это диктует обычай: вдова правителя выбирает себе нового мужа, который наследует власть и имущество умершего царя. Пенелопа верит в то, что Одиссей еще жив, но женихи резонно указывают, что война уже десять лет как закончилась, все, кто остался в живых, давно возвратились в родные края, и безвестно сгинувший царь наверняка просто не пережил долгого странствия, утонул или как-то еще погиб по дороге. Возможно, начинали они с каких-то более деликатных ухаживаний, но теперь церемонии позабыты, и женихи просто каждый день вламываются в дом Пенелопы, пьют, едят, разоряют имение, тащат, что попадет под руку, и в целом ведут себя как подселенные черным риэлтером профессиональные соседи из ада, чтобы вынудить несчастную женщину выбрать кого-то в мужья.

Утро. Иллюстрация к Одиссее. 1792 г. Художник: Джон Флаксман (1755–1826)
Афина, приняв облик гостя, приходит в дом Пенелопы в самый разгар их ежедневного буйства. Она находит там Телемаха и советует ему отправиться в путь, чтобы навестить соратников своего отца и попытаться узнать что-то определенное о его судьбе. Телемах соглашается и, предприняв еще одну неудачную попытку изгнать женихов, отплывает с Итаки в Пилос, к мудрому Нестору. Славный старик обрадовался сыну соратника, был гостеприимен, разговорчив и пустился в воспоминания: что Агамемнон и Менелай рассорились при отплытии, что прославленный богоборец Диомед благополучно вернулся на Аргос, и что лучник Филоктет, подстреливший Париса, тоже давно уже дома, а Идоменей добрался до своего Крита, не потеряв по пути ни одного человека, и это большая удача. Только про Одиссея Нестор не мог сказать ничего, зато посоветовал Телемаху навестить Менелая, который
«…недавно в отечество прибыл из чуждых
Стран, от людей, от которых никто, занесенный однажды
К ним по широкому морю стремительным ветром, не мог бы
Жив возвратиться, откуда и в год долететь к нам не может
Быстрая птица, – столь страшно великой пучины пространство».
Сказано – сделано, и вот Телемах в компании с сыном Нестора становятся на колесницу и через два дня пути достигают благословенной Спарты, где царит Менелай. Там двойной праздник: Менелай отправляет дочь Гермиону замуж за Неоптолема, сына Ахилла, рожденного одной из девиц, среди которых тот скрывался на заре юности еще до войны, и женит собственного сына, прижитого от рабыни. Здесь же вернувшаяся домой и вполне довольная жизнью Елена; супруги вспоминают со смехом, как Менелай, Диомед, Одиссей и другие сидели внутри знаменитого троянского коня, а Елена звала их по именам, чтобы они выдали себя на верную смерть – ну, да то дело прошлое. Телемах спрашивает об отце; после долгих воспоминаний и сентиментальных слёз Менелай рассказал, как во время последнего путешествия ему довелось пленить морского старца Протея: на море случился продолжительный штиль, и нужно было узнать, как вызвать попутный ветер. Дело оказалось, конечно же, в жертве богам, и напоследок Менелай поинтересовался судьбой своих товарищей по оружию: кто уже дома, кто погиб, а кто спасся? Протей рассказал, что Аякс Оилид попал в шторм и погиб где-то среди Эгейских островов, а Одиссей пленен нимфой Калипсо:
«…и путь для него уничтожен возвратный:
Нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы
Он безопасно пройти по хребту многоводного моря».
Отец жив! С этой новостью Телемах спешит отправиться в обратный путь на Итаку, несмотря на приглашение Менелая погостить у него подольше. Тем временем дома женихи вдруг узнают, что Телемах отбыл с острова в Пилос, к Нестору; чтобы не допустить его возвращения с новостями про Одиссея, да и просто избавиться от входящего в силу царевича, один из женихов, Антиной, снаряжает корабль с двумя десятками воинов и устраивает Телемаху засаду в узком проливе меж скалистых обрывистых берегов Итаки и острова Зам.
В сегодняшней популярной кинокритике такой прием называется «клиффхэнгер»: действие обрывается в напряженный момент, а рассказчик переключает внимание на другую сюжетную линию. Гомер проделал этот актуальный для современного кинематографа и литературы трюк больше 2 500 лет назад. С непринужденным изяществом обращаясь с пространством и временем, оставив Телемаха в Спарте, а Антиноя с его головорезами в сумеречных шхерах Ионического моря, он переносит нас на остров Огигия, где Калипсо безуспешно пытается принудить Одиссея ответить взаимностью на ее страсть – своего рода зеркальное отражение ситуации Пенелопы и женихов.

Терракотовая амфора с изображением греческих воинов-спартанцевок. 480–470 до н. э.
Посланный Зевсом Гермес в выражениях, не терпящих двоякого толкования, приказывает Калипсо отпустить Одиссея восвояси. Она пытается возражать: напоминает, что спасла Одиссея, когда тот едва не погиб, из последних сил цепляясь за доску в открытом море; что хотела дать ему бессмертие; что, в конце концов, ему просто не на чем отплыть с ее острова, но Гермес категоричен – отпустить. Грустная Калипсо отправилась с этой новостью к Одиссею, предложив ему сколотить плот и отправляться домой. Это звучит так неожиданно и абсурдно, что Одиссей просит Калипсо поклясться страшными клятвами в том, что она действительно отпускает его, а не собирается просто потопить вместе с этим плотом от досады. Калипсо печально клянется; Одиссей делает плот и выходит на нем в Средиземное море.
Восемнадцать дней он идет под парусом, ориентируясь по звездам, пока не попадает в страшный шторм. Гомер рассказывает о нем так же подробно и с не меньшим знанием дела, чем в «Илиаде» описывал битвы; для древней Эллады, расположенной на побережьях, изрезанных морем, с сотней малых и больших островов, мореплавание было стихией куда более знакомой, чем война.
«В это мгновенье большая волна поднялась и расшиблась
Вся над его головою; стремительно плот закружился;
Схваченный, с палубы в море упал он стремглав, упустивши
Руль из руки; повалилася мачта, сломясь под тяжелым
Ветров противных, слетевшихся друг против друга, ударом;
В море далеко снесло и развившийся парус, и райну.
Долго его глубина поглощала, и сил не имел он
Выбиться кверху, давимый напором волны и стесненный
Платьем, богиней Калипсою данным ему на прощанье.
Вынырнул он напоследок, из уст извергая морскую
Горькую воду, с его бороды и кудрей изобильным
Током бежавшую…».
Выбиваясь из сил, Одиссей нагоняет плот, влезает обратно – но через малое время исполинская волна, обрушившись валом, рвет крепежи, и плот разлетается, как сухая солома от ветра. Одиссей успевает схватиться за бревно, и в таком положении носится по бурному морю два дня, пока шторм не утихает. Впереди показалась земля, но и это еще не спасение: шумный прибой грозит разбить Одиссея о скалы, и лишь по счастливой случайности тому удается проплыть в устье впадающей в море реки. Изнуренный до последнего предела, голый, опухший, откашливающийся соленой водой, Одиссей заползает в кучу сухих листьев на берегу и засыпает.
В таком жалком положении его находит дочь местного царя Навсикая, пришедшая вместе с рабынями на берег реки постирать белье – такие эпизоды бытовой простоты вождей и правителей особенно трогали Жуковского, видевшего в них образы пасторальных общественных идеалов. Навсикая привела Одиссея в чувство и проводила во дворец к своему отцу, царю Алкиною. Добродушный правитель с готовностью соглашается помочь чужеземцу добраться до дома; сам Одиссей первое время сохраняет инкогнито, рассказав только о заключительной части своих злоключений: семи годах в плену у нимфы Калипсо, плавании на плоту, шторме и счастливом случае, который привел его на берег реки, а потом к встрече с добросердечной Навсикаей. Он так и отплыл бы неузнанным, если бы не случай. При дворце Алкиноя затеяли спортивные игры; на них слепой поэт Димодок поет о подвигах героев под Троей – интересное появление альтер эго Гомера, своего рода камео! Одиссею предложили принять участие в состязаниях. Он отказался, и тогда некто Эвриал заметил скептически, что гость, верно, просто купец, а не атлет, и уж точно не воин. И снова мы встречаем хорошо знакомый и любимый многими сюжетный ход: неузнанный заслуженный ветеран показывает заносчивой молодежи, кто есть кто. Помрачневший Одиссей, не снимая плаща, поднимает огромный камень, который в разы тяжелее метаемых дисков, зашвыривает его за пределы ристалища и предлагает:
«Юноши, прежде добросьте до этого камня; за вами
Брошу другой я и столь же далеко, быть может, и дале.
Пусть все другие, кого побуждает отважное сердце,
Выйдут и сделают опыт; при всех оскорбленный, я ныне
Всех вас на бой рукопашный, на бег, на борьбу вызываю;
С каждым сразиться готов я».
Желающих побороться или боксировать с Одиссеем не отыскалось. Зато всем стало ясно, что гость к ним попал непростой, а потому Одиссею ничего не оставалось, как назвать себя и поведать о необычайных приключениях, пережитых с момента отплытия от Трои.
Дальше следует центральная и самая известная часть поэмы, получившая наибольшее распространение в мировой художественной культуре – от живописи художников Возрождения до современной детской литературы. На протяжении четырех песен, с девятой по двенадцатую, которые в литературной традиции называют апологи, нам рассказывают историю, сделавшую само название «Одиссея» именем нарицательным, в прямом или переносном смысле обозначающим долгое странствие, полное невероятных событий. Обратите внимание, как Гомер использует еще один повествовательный метод из своего обширного творческого арсенала: вместе с героем-рассказчиком мы переносимся в прошлое – сейчас это бы назвали «флэшбек» – и следуем за ним по новой сюжетной линии в пространстве и времени, так называемому хронотопу дороги. Эти пространство и время принадлежат художественному миру поэта, и любые попытки привязать его топографию к реальному Средиземноморью обречены на фиаско. Существует достаточно много гипотез относительно того, где на карте следует обозначить остров Кирки или страну лотофагов, но ни одна из них не является, да и не может быть убедительной. Построение этих гипотез сродни поискам Атлантиды; как рожденная фантазией Платона мифологическая страна существовала только в его аллегориях на тему общества и государства, так и путешествие Одиссея проходит в реальности поэтического вымысла Гомера. Покинув вполне реальные берега Малой Азии близ Гиссарлыка, Одиссей и его корабли растворяются в мистическом тумане морей, чтобы потом вновь возникнуть уже на Итаке. Сегодня этот маршрут по суше можно преодолеть на автомобиле менее чем за сутки; но даже три тысячи лет назад, даже под парусом, на триерах, в обход Балканского полуострова, через три моря, путь занял бы недели, может быть, месяцы. Пропасть на десять лет можно было, только уйдя за пределы мира людей.
Первой остановкой на этом пути стал город народа киконов. Одиссей буднично сообщает:
«…град мы разрушили, жителей всех истребили.
Жен сохранивши и всяких сокровищ награбивши много».
Настоящим героям войны трудно избавиться от многолетних привычек.
Одиссей – не зря же он хитроумный – призывал товарищей скорей бежать подобру-поздорову с награбленным, но те на радостях перепились, отплытие задержалось, и киконы, собрав подкрепление, ударили с новыми силами. Грабители с трудом унесли ноги. Одиссей рассказал Алкиною, что там они потеряли убитыми по шесть воинов с корабля; согласно знаменитому списку Гомера, к Трое Одиссей прибыл на двенадцати кораблях, и значит, что после боя с киконами он недосчитался больше семидесяти человек.
В следующие три дня Одиссею пришлось пережидать бурю, укрывшись в пустынных скалах, а после шторма оказалось, что он и его спутники сбились с пути. Десять дней они шли неверным курсом, пока не пристали у берега земли лотофагов. Наученные опытом, бравые воины Одиссея не стали сходу грабить и жечь, чтобы не нарываться на битву, но тут их ждала напасть другого рода. Дружелюбные лотофаги угостили моряков сладким лотосом, и те, едва вкусив его, забыли родные края и захотели навсегда здесь остаться; Одиссею пришлось связывать их, грузить на корабль насильно и поспешно отчаливать.
Встреча с циклопами унесла еще несколько жизней. Мореплаватели бросили якорь у одного небольшого острова, чтобы поохотиться на диких коз, и услышали, как на соседнем острове, через узкий пролив, блеют явно домашние овцы. Одиссей взял двенадцать бойцов и отправился на разведку. Интересно, что в новейшее время циклоп Полифем, которому не повезло встретиться с Одиссеем, обыкновенно изображается исполинским монстром; у Гомера циклопы значительно больше похожи на какое-то дикое племя реликтовых гоминидов, чем на чудовищ: они живут семьями, не знают коллективного труда и земледелия, занимаются в основном скотоводством, хотя, конечно, довольно страшные с виду и превосходят среднего человека в размерах и силе. Вот к такому циклопу в пещеру и забрался с товарищами Одиссей: набрали, сколько могли, ягнят, козлят, домашнего сыра и хотели уже было бежать с наворованным, как появился хозяин, одноглазый циклоп Полифем. Он завел в пещеру стадо с выпаса, завалил выход камнем, развел огонь и увидел незваных гостей. Одиссей попытался было решить дело переговорами, апеллируя к своему статусу героя троянской войны и к законам гостеприимства, но не преуспел: Полифем размозжил головы двум морякам, сожрал их и преспокойно улегся спать. Пленники могли бы зарезать его во сне, но справиться с огромной скалой, завалившей выход, были не в состоянии. Утром Полифем убил и съел на завтрак еще двоих, выпустил стадо и ушел по делам, не забыв запереть пещеру скалой. Вечером циклоп снова прикончил еще двух спутников Одиссея, но тот, пока Полифем доедал их, умудрился напоить его до беспамятства, а потом, при помощи заостренного бревна и оставшихся товарищей, выбил циклопу единственный глаз. Полифем заревел; на его крики сбежались другие циклопы, спрашивая, что случилось, и кто его ранил. Хитрый Одиссей до того представился циклопу «Никто», и тот так и ответил своим соплеменникам: меня, мол, губит Никто, и сочувствия не снискал. Он так бы и оставался в неведении, как зовут вора, отобравшего у него и зрение, и овец, если бы Одиссей сам не свалял дурака. Уже выбравшись из пещеры, уведя у Полифема стадо и отплывая на корабле прочь, он не удержался и громко представился: знай, что тебя перехитрил и ослепил Одиссей, царь Итаки! Ему и в голову не пришло, что у одноглазого полудикого людоеда отцом может быть сам бог Посейдон, которому Полифем немедленно нажаловался на обидчика.
Обратите внимание, как все больше становится в повествовании фантастического: если эпизод с нападением на город киконов еще вполне реалистичен, то лотофаги, а потом и циклоп Полифем явно выходят за рамки знакомого мира людей. Динамику роста невероятного мы увидим и далее. Следующей остановкой на пути Одиссея был остров бога ветров Эола; тут все пошло сначала неплохо, и Эол даже заключил в мешок все ветры, кроме попутного Одиссею, чтобы помочь быстрее дойти до Итаки. Родной берег был уже на расстоянии прямой видимости, как в дело вмешался человеческий фактор: вороватые спутники Одиссея, полагая, что в завязанном мешке хранятся сокровища, развязали его и выпустили ветры наружу. Поднявшейся бурей корабли шесть дней бросало по морю, пока не прибило к острову лестригонов, исполинского роста чудовищных людоедов, в сравнении с которыми злополучный Полифем выглядел образцом деликатности и гостеприимства.
«Много сбежалося их, великанам, не людям подобных.
С крути утесов они через силу подъемные камни
Стали бросать; на судах поднялася тревога – ужасный
Крик убиваемых, треск от крушенья снастей; тут злосчастных
Спутников наших, как рыб, нанизали на колья и в город
Всех унесли на съеденье».
Чудом спасшийся Одиссей на единственном уцелевшем корабле через некоторое время оказался у берегов острова Эй. Его путешествие в глубины мифологического продолжается: на этом потустороннем острове мореходам встречается совершенно архаический персонаж – волшебница Цирцея[16]. В героическом эпосе зрелой патриархально-военной культуры герои пронзают друг друга копьями и кромсают мечами; если герои сражаются с чудовищами – это эпос более ранний, архаико-героический. Если же мы видим повелителей стихий и животных, волшебников, обращающихся в диких зверей или самих зверей, обладающих магической силой, то можем быть совершенно уверены в том, что эти герои пришли к нам из глубины доисторических и доаграрных времен, особенно когда речь идет о женских персонажах, очевидно наследующих культам богинь эпохи матриархата. Такова Цирцея: дочь то ли солнечного Гелиоса, то ли сумрачной лунной Гекаты, окруженная ручными волками и львами, колдунья, которой служат речные нимфы, она с ходу превращает спутников Одиссея в свиней – и этот во многом символический акт порождает впоследствии множество самых разных истолкований, от психоаналитических до феминистских. Сам Одиссей чудом избег этой участи: случившийся рядом Гермес предупредил его об опасности и выдал противоядие. Одиссей нашел с Цирцеей общий язык, уговорил вернуть своим спутникам человеческий облик и в полном довольстве прожил с ней целый год вместе, как муж, пока под давлением товарищей не решился покинуть гостеприимный остров.
Цирцея не стала его удерживать, но направила еще дальше, к последним пределам потустороннего, в область Аида, где Одиссею должно было встретиться с вещим Тиресием, фиванским прорицателем, чтобы узнать свою судьбу. Гомер с необычайной поэтичностью описывает то место, своего рода пограничную «мглистую область», где царство Аида соприкасается с миром живых: низкий берег, заросли ив и черных тополей, нависший утес, а под ним – устье сливающихся воедино подземных рек Коцита и Пирифлегетона.
Одиссей, следуя наставлениям Цирцеи, прибывает на место и совершает ритуальное жертвоприношение, чтобы вызвать призраки мертвых, слетающихся на свежую кровь. Среди них и прорицатель Тиресий, который предупреждает о гневе Посейдона за ослепленного и ограбленного Полифема, и о том, чтобы на предстоящем пути ни Одиссей, ни его спутники ни в коем случае не трогали быков Гелиоса. Повидал он и свою маму, и многих товарищей по оружию: Ахилла, Патрокла, Аякса Теламонида, и еще целый сонм отошедших в мир мертвых легендарных персонажей, которые проходили перед Одиссеем, как гости перед Маргаритой на знаменитом балу Воланда две с половиной тысячи лет спустя. Является даже Геракл, парадоксальным образом находящийся одновременно и на Олимпе, и в царстве Аида; Одиссей хотел еще увидеть Тесея и других великих героев, но:

Эол. 1549–1551 гг. Художник: Пеллегрино Тибальди (1527–1596)

Улисс за столом Цирцеи (Одиссея Гомера) Гравюра 1805 года по Джону Флаксману (1755–1826)
«…толпою бесчисленной души слетевшись,
Подняли крик несказанный; был схвачен я ужасом бледным»
…и поспешно ретировался на корабле в море.
Одиссей начинает обратный путь от мира мертвых к миру живых: он счастливо миновал остров сирен, залепив воском уши спутников и повелев привязать себя к мачте, чтобы все же услышать волшебное пение; проходит между ужасной Харибдой, исполинским водоворотом, жадно всасывающим морскую воду, и чудовищной шестиглавой Скиллой, сожравшей шестерых моряков. Изнуренные спутники потребовали у Одиссея пристать для отдыха к Тринакрии, тому самому острову, где пасутся быки Гелиоса. Предчувствуя катастрофу, Одиссей все же соглашается и берет со своих людей клятву ни в коем случае не убивать священных быков, довольно наивно предполагая, что грабители и налетчики, составляющие его команду, сдержат слово. Разумеется, едва Одиссей уснул, они взялись резать быков; столь же очевидно, что, стоило им выйти в море, страшная буря положила конец путешествию, уничтожив корабль, отправив на дно моряков, и лишь один Одиссей, ухватившись за мачту, смог выплыть к острову нимфы Калипсо.
В поэме рассказ Одиссея воспринимается царем Алкиноем и его поддаными как необычайный, но, вне всякого сомнения, достоверный. Сложно сказать, насколько фантастичными представлялись истории о сиренах, циклопах, превращении в свиней и лотофагах читателям и слушателям «Одиссеи». Само понятие фантастического и реального определяется уровнем развития сознания и мировоззрением: «отец истории» Геродот, например, писал о людях с собачьими головами – кинокефалах, живущих в Ливии и Эфиопии, но сам оговаривался при этом: «Я обязан передавать все, что рассказывают мне, но верить всему не обязан». Здравомыслящий Аристотель упоминал тех же кинокефалов в своей «Истории животных» как обезьян, но зато другой греческий автор, православный путешественник второй половины XVII века Павел Алеппский, спустя две тысячи лет после Аристотеля, утверждал, что лично видел собачью голову святого Христофора в Благовещенском соборе Москвы и даже прикладывался к ней, а сам святой мученик Христофор изображался иконописцами с головой собаки вплоть до 1722 года. Постоянное незримое, но явное присутствие богов в жизни людей не воспринималось в античном мире как проявление сверхъестественного, это было отражение целостного восприятия мира, неразделенности трансцендентного и человеческого. Предположу, что в этом контексте апологи «Одиссеи» выглядели фантастическими, но не невероятными.
Фантастика – то, чего мы не встречаем по дороге с работы домой. Одиссей по пути с ратной работы до дома насмотрелся всякого.
Царь Алкиной помогает Одиссею добраться до берегов Итаки. Он, наконец, на родине, но не в безопасности: все его люди погибли, в доме хозяйничают женихи, а двадцать лет войны и тяжелых странствий так изменили внешность, что вряд ли его узнает даже жена. Одиссей предпочитает сохранить до поры инкогнито, в образе нищего бродяги отправляется к старому своему слуге, свинопасу Евмею, которому представляется военным товарищем пропавшего без вести царя Итаки, предсказывает его – своё! – скорое возвращение и получает пристанище, чтобы обдумать дальнейшие действия.
Оставив Одиссея в хижине свинопаса, Гомер переносит нас в Спарту, где к Телемаху является во сне богиня Афина. Она убеждает его вернуться, да поскорее: отец и братья Пенелопы почти преуспели в принуждении ее к браку с одним из женихов, Евримахом. Афина предупреждает о засаде в проливе у острова Зам и советует по прибытии на Итаку идти в дом к Евмею. Телемах благополучно добирается до Итаки и встречается с Одиссеем: сначала неузнанный отец открывается сыну, и вот уже оба рыдают от счастья в объятиях друг друга.
Все сюжетные линии собрались в одну; дальше линейное повествование рассказывает о событиях общеизвестных: как Одиссей, Телемах и Евмей составили заговор, чтобы погубить все больше ожесточающихся женихов; как после целой череды напряженных событий Одиссей в образе нищего оказался у себя во дворце на разнузданном пиршестве искателей руки Пенелопы; как она, единственная на тот момент из близких, кто не знал о возвращении Одиссея, выносит старый лук мужа и обещает выйти замуж за того, кто сможет натянуть его и пустить стрелу сквозь двенадцать колец. К этой минуте женихи уже были обречены: Телемах спрятал все их оружие в кладовой. Одиссей взялся за лук, Телемах встал рядом с ним, вооружившись копьем и мечом. Первая стрела угодила в горло Антиною, тому самому, кто устраивал засаду на Телемаха. Когда он рухнул замертво, Одиссей сбросил обличье нищего и заявил о себе женихам. Те от страха попытались было решить дело миром, обвинив в бесчинствах и покушениях на жизнь Телемаха только что испустившего дух Антиноя, но не вышло. Одиссей твердо намерен был перебить всех, и в запертом пиршественном чертоге началась резня. Царю и царевичу с удовольствием помогал и верный свинопас Евмей. Гомер Гнедича описал бы сцену побоища с куда более живописной кровавой красочностью, но и Гомер Жуковского справился с этим неплохо:
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽