Путь человека от зачатия до смерти, и немного дальше (экзистенциально-холистические аспекты)
Текст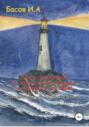


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 39,90 ₽
- Объем: 280 стр. 10 иллюстраций
- Жанр: возрастная психология, саморазвитие / личностный рост
Уже новорожденным присущи страхи в виде рефлекторных (инстинктивных) реакций типа вздрагивания при резком звуке. С 1,5 месяцев можно наблюдать беспокойство при длительном отсутствии матери; к 3 ребёнок спокоен с теми взрослыми, которые ведут себя как мама (любят, ласково разговаривают, радуются ему). Ребёнок очень чувствителен к настроению матери и легко его перенимает как в плюсе, так и в минусе. После 6 месяцев ребёнок начинает «учиться» реакциям на внешний мир у мамы, например, при громком звуке не плачет, как раньше, а «спрашивает» взглядом у мамы как нужно реагировать (если она улыбкой даёт понять, что все хорошо – то ребёнок быстро успокаивается, т.е. родители, в некотором роде, являются программистами отношения к внешнему миру).
До года мы получаем прообраз одиночества, отчуждения, неприятия – это беспокойство в ответ на прерывание (уход, отсутствие) матери; а также сказочных чудовищ (кощея, бабы Яги) – пугающих, отличных от матери взрослых. Например, страх Волка чаще возникает у детей со страхами наказания со стороны отца (в случае его излишней строгости) или лишённых общения с ним. Меньше страхов и они более быстропроходящи в семьях гармоничных (без излишних тревог), с руководящей ролью отца, уверенных в себе родителей, поощряющих самостоятельность детей, помогающих процессу формирования их «я».
Типичными для младшего дошкольного возраста являются страхи одиночества, темноты и замкнутых пространств, которые легко убираются в играх33, особенно при участии в них отца и самостоятельным распределением ролей с подсказками взрослых. На старший дошкольный возраст приходится пик выраженности страхов, который обусловлен когнитивным развитием (возросшим пониманием опасности) и выражающийся в потоке вопросов («почему пошел дождь?», «сколько лет ты будешь жить, а я?», «откуда берутся дети?»).
Младший школьный возраст – новая социальная позиция (необходимость соответствия коллективным правилам, социальным нормам и стандартам) несущая соответствующие страхи и беспокойства: боязнь порицания, сделать или ответить что-то не так, не успеть (например, распространенный страх, особенно у девочек, опоздать в школу). В подростковом возрасте ведущими являются страхи собственной смерти и смерти родителей, а также нападения и пожара; тем не менее, общее количество страхов становится достоверно меньше.
В целом в дошкольном возрасте преобладают страхи исходящие из инстинкта самосохранения, в подростковом возрасте они носят скорее социальный, межличностный характер (в котором и формируется самосознание личности, например, страх «быть не собой»), а младший школьный – смешанный или переходный.
Конфликты в семье (отсутствие взаимопонимания между родителями их недоступность в человеческом плане), эмоциональная холодность ведёт к увеличению количества страхов и/или их аффективной составляющей (причём девочки чаще реагируют страхами, а мальчики возрастающей агрессией как защитой34); что в свою очередь приводит к неуверенности, неприятию себя, низкому социометрическому статусу, хрупким, плоским жизненным планами.
Невротическим страх становится в случае отсутствия действительной, конкретной угрозы, либо имеет существенно большую выраженность, не соответствующую по значению происходящему в действительности; вместе с тем, у него всегда существует своя психологическая подоплёка и он является ведущим клиническим проявлением при неврозах.
Хотя страхи у детей при неврозах сопоставимы со страхами у родителей, они не имеют однозначно генетического характера и является скорее результатом воздействия внутреннего мира взрослых (непроизвольное научение, их конституционально общий тип нервно-психического реагирования) на мир ребёнка (особенно при благодатной почве – повышенной сензитивности, неуверенности, ранимости, отсутствии адекватных психологических защит). Например, боязнь одиночества вызовет повышенное беспокойство, когда ребёнка нет рядом, его гиперопеку (и его так «заопекают», что лишат естества, своего я, своей жизни; т.е. дело не в ребёнке, а, допустим и достоверно чаще, в матери, которой было не досуг разбираться со своим внутреннем миром). Максимальный риск такого «заражения» будет в дошкольном возрасте (период эмоционального влечения к родителям, идентификация с ними) и в 10 лет (возраст максимальной внушаемости), причём больше по линии родителя того же пола.
Пагубными факторами выступают отчуждение (отсутствие эмоционального отклика, дистантные отношения), непоследовательность и нестабильность, бестолковые, обильные угрозы и наказания, повышенный контроль. У матерей это решительность, склонность к депрессиям, внутренняя неудовлетворенность, импульсивность, беспокойство, трудности в установлении контактов. У отцов – подозрительность и недоверчивость, нетерпимость, паранойяльный настрой.
На начальных этапах (чаще в младшем школьном возрасте) тревога будет говорить о недоверии к себе, о непрочности «я» и его внутренней противоречивости. Далее (в подростковом возрасте) всё больше растут сомнения в правильности своих действий, колебания в ситуациях выбора, т.о. укрепляется, но ещё не устойчиво, тревожно-мнительный настрой. Затем страхи кристаллизуются (хотя в целом их становится меньше) и появляются фобии. Здесь страх становится топливом личности в её клинической картине и выступает ведущей мотивацией почти не подвластной человеку (ему становится страшно жить, ну потому что «а вдруг», и он выстраивает своё бытие согласно политике страховой компании35).
Захаров А.И.36, в исследуемом нами периоде, выделяет четыре вида страхов:
Младший дошкольный возраст – страх «быть никем» (ничего не представлять и не значить, быть отвергнутым) – страх эмоциональной и социальной изоляции основанный на выраженной для данного возраста потребности в эмоциональном признании и поддержке. Это страх остаться наедине с собой, без защиты, со своими проблемами и страхами угрожающими чувству собственной ценности, подвергающими сомнению свои силы и возможности, нарушающими внутреннюю целостность. Особенно остро это ощущается при засыпании (один, в темноте, замкнут в комнате), бессилие перед чудовищами – это чувство беззащитности (нет поддержки со стороны взрослых), они (родители) оказываются неспособны «прогнать монстра», успокоить, развеять страхи. Т.е. страх – отражение дефицита в признании, поддержке, эмоциональной близости; внешне наблюдаемом в «прилипчивости», навязчивой, аффективно заостренной потребности во внимании и присутствии взрослых. Дефицитом здесь выступает именно любовь и психологическое тепло (экзистенциальная встреча, бытие с ребёнком), а не гиперопека, предписания, запреты и беспочвенные требования на фоне формализма в отношениях. Страх «быть никем» максимально представлен при истерическом неврозе, являясь одной из генеральных мотиваций на жизненном пути.
Старший дошкольный возраст – страх «быть ничем» (не быть, не существовать), его источник – страх смерти (не смерти как таковой, а всего, что может привести к глубокому несчастью, беде, непоправимым физическим травмам). Если в совладании с предыдущим страхом ведущая роль принадлежит матери, то здесь – отцу, он может помочь вернуть уверенность в себе, выстроить правильную психологическую защиту. Но, как и ранее, источник исцеления лежит там же, где и болезни, это один и тот же источник. Именно с отцом отношения нарушены, у мальчиков в идентификации, у девочек в эмоциональном контакте. Фигура отца может быть нарушена как в сторону мягкости, условно «подкаблучной» позиции, выключенности из семьи, так и в жестокость, с угрозой физических расправ. Понятно, что это чаще всего дисгармоничные семьи, в которых супруги находятся в конфронтации (например, тревожно-мнительной с истерическими нотами матерью с параноидальным отцом).
Младший школьный возраст – страх «быть не тем» (не соответствовать ожиданиям, социальным нормам) – страх ошибиться, быть несостоятельным в глазах значимых лиц, сделать что-то не так или не то, что следует; что представляет угрозу «я-концепции» (моя ценность) и «я-образу» (представления обо мне других), а значит порождает тревогу (мотивация предвосхищения событий). Здесь, как и далее, мы можем увидеть сплав предшествующих страхов: «быть никем» (социальная изоляция как результат потери расположения других) и «быть ничем» (несчастье и беда как результат нарушения общепринятых норм). Это возраст формирования чувства долга, ответственности, обязанности, развития этики социальных отношений; однако, если сделать перекос только на них (завышенный уровень притязаний родителей, повышенные требования, давление, тревожные ожидания) и лишить ребёнка отношений наполненных жизнерадостностью и непосредственностью, то это чрезмерно усилит нервно-психическое напряжение и можно легко получить клиническую форму страха «быть не тем» – неврастению (особенно при выраженном чувстве вины и честолюбии самого ребёнка).
Подростковый возраст – страх «быть не собой» (потерять неповторимость «я», не совладать с собой, быть болезненно изменённым). В клинической форме (обсессивном неврозе) появляются навязчивые идеи, воспринимаемые как чужеродные, несовместимые с «я» (страх сумасшествия, болезни, уродства (в т.ч. избыточного веса), сглаза. Очень часто этот страх возникает как результат воздействия гиперсоциальных, тревожных и/или паранойяльных родителей (имеющих эти черты характера в заострённой форме) в жесткой попытке передать (навязать) свою программу выживания (мышления, действий, поступков) ребёнку без учёта его потенции развития, самосознания и реальных жизненных обстоятельств.
Ниже представлена таблица рассмотренных невротических страхов (сгруппированных Захаровым А.И.37); из которой можно вывести, что общим для них является страх потери поддержки и признания («быть не таким как все»), а основой – потребность в самоактуализации («быть собой среди других»)38.
Таблица 1. Невротические страхи

Таким образом, мы получали достаточно чёткое свидетельство, что состояние нашего внутреннего мира будет определять наше отношение к ребёнку, которое, в свою очередь, оказывает прямое влияние на его развитие. Так, если у меня, как у родителя, внутри живёт страх и тревога, которую я не умею понять и осмыслить, то она неизбежно будет транслироваться во внешний мир и проявляться в отношении к ребёнку, роняя зёрна тревоги и страха в его существо.
***
Рассмотрим подробней влияние внутреннего мира родителей и построенных отношений в семье на ребёнка. Мы полагаем, что правильней делать ставку на раскрытие содержания тех или факторов, а не их оболочку; например, исследования показывающие, что детей больных неврозами больше в семьях родителей имеющих высшие образование говорит скорее о перекосе в сферу интеллекта (зачастую уводящего от природности) в ущерб сердцу (чувствам), которое играет приоритетную роль в развитии ребёнка (чем младше, тем больше) и гиперсоциальности. Об этом же свидетельствует то, что у матерей детей с неврозами более высокий уровень абстрактного мышления и интеллекта, причём на фоне неуверенности в себе; что, к тому же, подтверждает высказывание «многие знания – многие печали» (сфера познания расширяется и получает большую площадь соприкосновения с незнанием, неизвестным, рождая увеличившееся понимание своего неведения). Конечно же, дело не в самом образовании, а в содержании факта и надо уметь отодвигать «шелуху» внешнего, способную загипнотизировать и запутать любого; так же дело не в самом интеллекте и знаниях, а в отношении к ним (в частности, принятия неведения и понимании – благодарности роли глупости на жизненном пути человека – куда вместить новое, если уже всё знаешь).
Психосоматика у таких родителей присутствует в два раза чаще, чем в норме. В основном это скачки артериального давления, головные боли и боли в сердце, нарушения работы желудочно-кишечного тракта; здесь важно делать разворот на 180° – понимать и работать с причиной в себе (отношении к спутнику жизни, проекциями на ребёнка, непринятии себя – «игра в сокрытие»), а не «прятаться» в таблетках. Та же картина наблюдается в сексуальной сфере (которая у родителей детей с неврозами достоверно чаще нарушена), и здесь делать ставку на техническую составляющую без осмысления внутренних причин не представляется верным (полагаем, на этом примере можно завершить доносимый месседж).
В целом можно говорить, что жёсткая фиксация личности родителей в крайностях (например, крайних типах темперамента или жёстких позициях в конфликтах) способствует невротизации детей. С экзистенциальной точки зрения, как мы полагаем, это показывает уход от полноты бытия, на который жизнь не может не отвечать (т.е. человек как бы говорит миру, что он должен быть только таким, тогда это хорошо; что он сам может быть только таким и только тогда это правильно). Происходит отрицание части спектра бытия, которую человек считает плохой, неправильной, недостойной, неприемлемой; тоже происходит во внутреннем мире, он разделяется на верное, хорошее и неверное, то, что отрицается. Например, человек считает, что быть умным хорошо, и этим создаёт (активизирует) шкалу дуальности, на противоположном полюсе которой будет дислоцироваться глупость, с которой нужно бороться, подавлять и скрывать. Т.о. человек не улавливает самой сути экзистенции, её цельности (ума не существует без глупости, также как любви без ненависти, богатства без бедности, верности без предательства), причиняя боль себе и способствуя страданию близких.
Важно помнить, что семья – это система, которая стремиться к равновесию, гармонизации; что означает, что фиксация родителя на какой-либо крайности неизбежно должна быть уравновешена её противоположностью (отражена в мире её отрицаемой частью). Например, если мама уходит (западает) в эмоции/истеричность, то кто-то в семье (муж или ребёнок) будет настолько же далеко уходить в интеллект/рациональность. Что конечно будет порождать конфликты, но сама система будет уравновешена.
Ключевым будет как понимание самого механизма работы дуальности, так и их внутреннего наполнения. Так, в рассматриваемой ситуации, мама – это сердце, чувства (но, как бы поломанные, незрелые или непонятые, находящиеся в оппозиции к уму); папа – это ум, мысли (также, как бы неполноценные и воюющие с чувствами). Экзистенциально, холистично, ум и сердце не нечто противоположное, но цельное, как две стороны одной монеты, это партнёры, которые были разделены в сознании человека. И именно их борьба (непризнание и непонимание важности противоположной роли) порождает как конфликты в семье, так и психические отклонения родителей и, соответственно, детские неврозы. Собственно, именно так чаще всего и бывает, аксиомой (конечно, не осознаваемо) выступает аксиома борьбы, и главный вопрос семьи – вопрос власти – это сражения ума и сердца, которые у личности выступают как оружие; а полигон – тело, т.е. ребёнок, на котором всё отражается: воронки ссор, взрывы мести, канавы обид.
Все те характеристики личности родителей, которые коррелируют с детскими неврозами (а их очень много: эгоцентризм, проблемы самоконтроля, тревожность, зависимость, недовольство, напряженность, эмоциональная черствость, пессимизм, недоверчивость, упрямство, беспокойство (псевдозабота), конфликтность, депривированная потребность в признании, нетерпимость, противоречивость, и т.д., и т.п.) будут выступать таковыми только при их чрезмерной заострённости, «безальтернативности» и не являться причиной в себе. Можно сказать, что главным будет выступать гиперсоциальность (т.е. недоверие и непростроенность своего мироздания; социум, как суррогат себя) и отсутствие экзистенциальной встречи с ребёнком (бегство от душевной близости, «настоящести» контакта, отсутствия доверия к его природе и её понимания).
Конечно, есть и некоторые точечные, но фундаментальные причины (хотя они несложно выводимы из двух отмеченных). Так, неумение дифференцировать вину и ответственность (одну из четырёх экзистенциальных данностей) может запросто привести к душевному недомоганию и далее к болезни.
Возвращаясь к качествам личности, рассмотрим их «специализацию» (см. таблица 2). В предложенной таблице несложно увидеть довольно чёткую передачу генеральных линий жизненного сценария, в народе выраженного пословицами «яблоко от яблони недалеко падает» и «что посеешь, то и пожнёшь». Общими для всех проявлений личности выступают следующие качества: негибкость реагирования (жёсткая фиксация), невозможность сменить свои состояния (они управляют моей жизнью, а не я ими), несознаваемая идея компенсировать внешним внутреннее (кожаный чемодан сделает меня уверенным, желанным и счастливым). Соответственно более здоровой почвой для детского развития будет их противоположность: реализм/принятие опора/учёт бытия (того, что есть, таким, каким оно есть (тоже, но иначе – действие исходит не из того, что вроде должно быть, а из того, что есть)), естественность/непринуждённость (как ремарка: для того, чтобы проявлять естество, нужно его иметь, а значит «обнаружить» и «родить»). Т.е. неразрешенность родителями своих задач развития (выраженных в перечисленных качествах) псевдоразрешается за счёт невроза у ребёнка, который, что случается очень нередко, передаст это дальше формируя то, что можно обозначить как родовая карма (в которой воспитание заменяется на «бить страхом»).
Таблица 2. Невротические проявления личности родителей и формируемые ими детские неврозы

Известно, что в «полях» (реальных жизненных условиях) всё не так прямолинейно и эти «правила» имеют свою не узкую вариативность и известные исключения (т.е. ребёнок, воспитанный эмоционально неудовлетворёнными родителями в атмосфере перманентной напряжённости не обязан стать неврастеником). На наш взгляд, для понимания почему это именно так, а не иначе, имеются два основных «ключа».
–во-первых, ребёнок впитывает атмосферу во всех нюансах даже отрицая (например, в семье постоянно орут и ругаются матом, поэтому я буду говорить интеллигентно и тихо; или мои родители были бедными, поэтому мой ребёнок не будет ни в чем нуждаться; или отец пил и бил маму, поэтому, внимание!, один брат будет пить и бить жену (ведь, что он ещё должен делать с таким то батей?), а второй будет вести трезвый образ жизни и супруга пальцем не тронет (ведь, что он ещё должен делать с таким то батей?)), т.о. закладка сценария происходит в любом случае.
–во-вторых, между родителями весьма редко идёт взаимопонимание, общие взгляды (в т.ч. на воспитание и согласие по генеральной и вторичным «линиям партии»). Чаще наоборот, поэтому на сознании будет «победитель» (условно позитивный), а в подсознании «проигравший» (условно негативный), который наравне с «хорошим» режиссёром будет разыгрывать пьесу жизни (например, пить, проигрывать или терять деньги, выбирать не ту пару, попадать в неприятности и т.п., или напротив, быть «голосом совести», шепчущим, что живёшь не так). Т.о., без особого преувеличения, можно сказать, что до определенного времени (пробуждение Person, по А. Лэнгле, как шанса, который выпадает не так уж часто и также не часто ценится) человек смотрит на мир через родительские очки, где одна линза – это мама, а другая – папа.
То, что чаще принято рассматривать в психологии и психотерапии про жизненные сценарии, психологические травмы и т.п. полученные в детстве должно бы включать глубочайший и интереснейший экзистенциальный «сектор», на фундаментальном уровне определяющий жизненный путь человека, причём весьма детально. Так, именно от родителей тем или иным образом (чаще косвенно, но всегда своим примером39) мы получаем гамлетовские ответы о том, кто мы (и какие) и куда идём (и как туда попасть). Возможно, «кухонный» взгляд посчитает это не существенным или пустой, отвлеченной философией, но в действительности трудно найти что-то конкретней и практичней.
Тот факт, что мы считаем себя людьми (а не, допустим, собачками) имеет место быть именно благодаря информации транслируемой семьёй как ячейкой социума; то, что мы считаем себя мужчиной или женщиной и что это вообще значит, и как ими быть; нужно и можно ли задаваться какими-либо «высокими» вопросами и воплощать их своей жизнью или достаточно бороться за место под солнцем; считать или нет какое-либо животное священным или «грязным», что такое быть грязным, а что достойным; что такое хорошо, а что такое предать, подло воспользоваться и нужно ли потом мучиться угрызениями совести, и как это делать: пить, обвинять других или пойти в храм на молитву и покаяние.
Применяя ключ двойственности, мы видим, что самые болезненные её (двойственности) растяжки и будут задавать направление и смысл жизни человека, создавая её (конкретной человеческой жизни) наполнение. Например, мать была мягкой, а отец жёстким, и ребенок решил, что отец «молодец», и стал реализовывать в своей жизни жесткость, испытывая вину перед мягкостью – матерью; и это может стать «красной линией» его бытия, которая будет механически перебрасывать личность из одной стороны в другую. Причём, чем сильней полюса дуальности разведены (подавляется один и возвышается другой), тем больше напряжения это создаёт. Можно считать, что ключевые двойственности, полученные в детстве (почти всегда в болевом опыте разделённости) и составляют программу выживания личности (в том смысле, что она не осознаётся, но реализуется человеком).
Ещё раз сделаем важное уточнение, поставим своеобразный предохранитель, как мы это неоднократно делаем в тренинговой работе и прописывали в некоторых предыдущих публикациях, что здесь нет какого-либо обвинения каких-либо родительских действий, информационных трансляций и уж тем более переживаемых ими чувств и состояний. Мы как родители передаем то, что передаем, а нам передали то, что передали, и в этом всегда есть смысл, в том числе получаемый в боли и страдании (собственно именно постижение именно такого смысла делает возможным полноценное понимание экзистенциальной логики жизненного пути).
***
Далее мы подробно остановимся на конфликтах в семье. Полагаем, что всякому адекватному человеку понятно, что построение семьи – это труд (в т.ч. преодоление разногласий), с неизбежными препятствиями или задачами весьма разной сложности. Но в сознании человека они представлены по-разному (ведь в этом так же проявляется свобода отношения к происходящему) и невротические субъекты склонны приписывать им большую тяжесть и неразрешимость, выливающуюся в затяжные конфликты. Самый конфликтный вопрос в семье – это вопрос власти, в котором достоверны следующие данные: наиболее высокая конфликтность и частота разводов в парах, где мать и отец обладают твёрдым характером (чаще с ребёнком девочкой); на втором месте – мать с твёрдым характером, а отец с мягким; реже всего конфликтуют и разводятся пары, где отец обладает твёрдым характером, а женщина мягким (особенно в семьях с сыном). Твёрдость характера (в своём негативном аспекте) здесь коррелирует с уже рассмотренной нами гиперсоциальной направленностью личности, ригидностью мышления и жёсткой доминантностью.
Пожалуй, самым интересным, самым трудным в постижении (видении в себе) и самым действенным лекарством широкого спектра является проекция (её раскрытие). Её внутренний механизм составляет кольцо вина-осуждение, т.е. то, за что мы осуждаем другого – это то, за что мы испытываем вину = не хотим этого признавать в себе. Так, в конфликтной ситуации виноватым обеими сторонами считается другой (что показывает, например, методика Розенцвейга), а рассмотренное нами доминирование и непримиримость приписывается другому (например, методика Лири) также обеими сторонами. Причем более активная конфликтная позиция (более сильное осуждение и подсознательная вина) будет у родителей одного пола с детьми (у отцов имеющих сыновей, у матерей – дочь), видимо, это стоит рассматривать так, что ребёнок используется как «союзник на войне».
Частые, затяжные, деструктивные (ведущие к войне и уводящие от осмысления) конфликты, безусловно, являются патогенным фактором в развитии детских неврозов. Конфликт родителей с детьми имеет также своей основой проекцию – подмены ребёнка таким какой он есть, на то, каким он быть должен по мнению взрослого (кем, например, сам хотел стать) или навешивание на него сторонней роли (например, родителя или супруга). Матери, особенно при неврозах, чаще неудовлетворенны ребёнком, отцы с детьми конфликтуют значительно реже (нередко причиной этому приписываемый папам «пофигизм» или, напротив, «мудрость»; хотя в действительности дело в том, что хрестоматийно женщина реализуются через ребёнка, а мужчина через преобразование внешнего мира). Допустим, мама может наряжать ребёнка на прогулку как «Барби», а ребёнок будет пачкаться, просто потому, что он ребёнок. О ком мама в этот момент заботится: о здоровых потребностях чада или о том, чтобы выглядеть модным родителем?
В дошкольном и младшем школьном возрасте конфликты родителей с детьми носят открытый характер, в подростковом возрасте и далее психологическое напряжение всё более остаётся во внутреннем мире (видимо по причине, что дети уже могут «дать сдачи») постепенно переходя в хронический вариант. Как отмечалось, по мнению родителей, источником конфликта является ребёнок (что не способствует пониманию реальных причин), а проблемой (как это видят взрослые) чаще всего, – в дошкольном возрасте выступает упрямство (неисполнение требований), в школьном – учёба (приготовление уроков).
Для примера, рассмотрим проблемную ситуацию связанную с учёбой: ребёнок слабоуспевающий и плохо выполняет домашнюю работу, родители так помогают, что доходит до односторонних скандалов. Можно сконцентрироваться на ребёнке и пропустить себя (родителя). Но если захотеть выйти на целостное понимание ситуации… Родитель, скорее всего мама, не доверяет самостоятельности детей, перепроверяет, заставляет переписывать (а когда это из-за одной ошибки, то очевидно что-то не так с кем?) и прочая; что приводит к перенапряжению ребенка, неуверенности в своих силах, скованности, утомляемости и заторможенности. Но главное, это забирает у ребёнка ответственность – основной критерий взрослости, потому как все «косяки» разгребает мама, следствия ошибок (неизменной и необходимой части жизни) пожинает не он сам. Это зачем-то нужно маме? А причина где-то в следующем: у родителей в отношении уроков гиперсоциальные (гипертрофированное чувство долга и принципиальность) и/или паранойяльные черты личности, мнительность, повышенная тревожность, избыточная забота и контроль.
Хотелось бы подчеркнуть, что речь идёт о том, что проблемную ситуацию (любую, в том числе не связанную с невротическим заболеванием детей) в частности и бытие в целом нужно осмыслять – не искать виноватых, а идти к пониманию происходящего через себя. Так, например, достоверно известно, что конфликт с детьми более характерен для доминирующего в семье родителя противоположного пола40 и это попытка оказывать на детей избыточное давление (власть), возможно, отчасти с тем, чтобы избежать эмоциональной и половой изоляции в семье. Так может надо работать над этим? Попытка же изменения внешнего без изменения внутреннего приведёт к повтору той же ситуации в усиленном виде и так по нарастающей.
Так же мы предлагаем смотреть на содержание человека в перевес его пола, т.е. в женском теле может довлеть мужчина и наоборот. Опять же, в этом нет ничего мистического, хоть и было выражено ещё в широко известном эзотерическом символе «Инь-Ян» (что, применительно к разбираемой теме, означает – в любом человеке, независимо от пола, есть и мужское начало и женское, и мать и отец). Продемонстрировать это можно следующими данными: у отцов имеющими конфликт с сыновьями имеются следующие личностные характеристики (воспросник Кеттела): эмоциональная неустойчивость, легко расстраиваются и поддаются чувствам, т.е. имеют характеристики хрестоматийно присущие женщине и вызывающие борьбу с мужскими качествами.
Мы полагаем (как гипотеза), опираясь на исследования Захарова, что программа выживания (в том числе, но не ограничиваясь этим, конфликтные отношения с мужем и детьми; и шире как полоролевые, семейные взаимоотношения и воспитание детей) передаётся преимущественно по материнской линии. Т.е. мать, в этом смысле, является ключевой фигурой. А говоря о программе, мы имеем в виду некую кармическую проблематику, которая будет транслироваться и передаваться личностью дальше по поколениям, выступая своеобразным наследием, которое получает человек от момента зачатия41 и в процессе воспитания (преимущественно в ранние годы жизни). В практике это означает, что если человек отказывается от осмысленного бытия и убегает от экзистенциальных задач развития42, то он в большей мере (в прямой зависимости от степени своей неосознанности) «механически» реализует переданный ему сценарный план (например, месть противоположному полу) и так же «механически» передаёт его дальше, так сказать, увеличивая кармический груз получателя.
Исследование личности матери при конфликте с детьми (вопросник PARI) показали ряд данных, главными из которых, на наш взгляд, являются неприятие семейной роли, жертвование собой (как это видит мать) во имя интересов семьи. Получается, что мама является мамой через силу, заставляет себя ей быть (по всей видимости, головой понимая, что так надо, но душой не соглашаясь с этим); такое положение дел во внутреннем мире создаёт чувство вины перед самой собой и осуждение других, за то, что не ценят её жертвенность (что после вызовет ещё порцию чувства вины и самобичевания, а затем новую волну осуждения). Данный механизм человеком сознаётся в очень слабой степени и каждый виток переживается как будто в первый раз; в пределе же это приводит к разрыву отношений и психосоматическим заболеваниям (где болезнь будет выступать предохранителем).
Описанное выше классифицируется нами как частный случай эмоционального (экзистенциального) выгорания43 в основе которого лежит предательство себя. Отметим несколько практических следствий:
– не нужно строить семью и заводить детей, только потому, что это делать пора и так принято;
– не надо жертв, если они не прошены;
– не надо строить семью так и такую как положено, если вы хотите и решили иначе.
Дети на эмоциональное неприятие (относятся пренебрежительно, равнодушно, а потребность быть собой блокируется) реагируют криком и плачем в первые годы жизни, обидой и протестом в последующие. Отношение к семье в настоящем распространяется и на будущее; например, если мать помыкает отцом, то мальчик может решить остаться холостым и самому распоряжаться свободой (как он её понимает).
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽