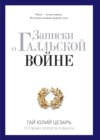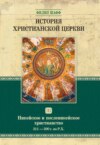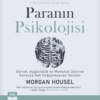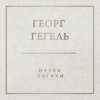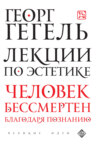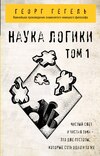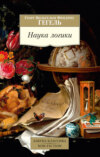Читать книгу: «Лекции по истории философии»
Вступительная речь, произнесенная в Гейдельберге 28 октября 1816 г.
Милостивые государи!
Так как предметом наших лекций будет история философии, а я сегодня в первый раз выступаю в этом университете, то позвольте мне предпослать этим лекциям выражение особого удовольствия, доставляемого мне тем, что я именно в данный момент возобновляю свою философскую деятельность в высшем учебном заведении. Ибо наступило, по-видимому, время, когда философия может снова рассчитывать на внимание и любовь, когда эта почти замолкшая наука получает возможность вновь возвысить свой голос и имеет право надеяться, что мир, ставший глухим к ее поучениям, снова преклонит к ней ухо. В недавно пережитое нами бедственное время мелкие будничные интересы повседневной жизни приобрели такое важное значение, а высокие интересы действительности и борьба за них так поглотили все способности, всю силу духа, равно как и внешние средства, что для высшей внутренней жизни, для чистой духовности уже не могло оставаться понимания и досуга, и те, которые обладали более возвышенным характером, были остановлены в своем росте и частью пали жертвами этого положения вещей. Так как мировой дух был столь занят действительностью, то он не мог обратить свой взор внутрь и сосредоточиться в себе. Ныне же, когда этот поток действительности остановлен, когда немецкий народ своей борьбой покончил с прежним своим жалким положением, когда он спас свою национальность, эту основу всякой живой жизни, мы имеем право надеяться, что наряду с государством, которое дотоле поглощало все интересы, воспрянет также и церковь, что наряду с царством мира сего, на которое до сих пор были обращены все помыслы и усилия, вспомнят также и о царстве божием; другими словами, мы можем надеяться, что, наряду с политическими и другими связанными с будничной действительностью интересами, расцветет снова также и наука, свободный разумный мир духа.
Мы увидим при рассмотрении истории философии, что в других европейских странах, в которых ревностно занимаются науками и совершенствованием ума и где эти занятия пользуются уважением, философия, за исключением названия, исчезла до такой степени, что о ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже смутного представления о ее сущности; мы увидим, что она сохранилась лишь у немецкого народа, как некоторое его своеобразие. Мы получили от природы высокое призвание быть хранителями этого священного огня, подобно тому как некогда роду Евмолпидов в Афинах выпало на долю сохранение элевзинских мистерий или жителям острова Самофракии – сохранение и поддержание возвышенного религиозного культа; подобно тому как еще раньше мировой дух сохранил для еврейского народа высшее сознание, что он, этот дух, произойдет из этого народа как новый дух. Мы вообще теперь так далеко пошли вперед, достигли столь значительной серьезности и столь высокого сознания, что мы можем признавать лишь идеи и то, что получает оправдание перед нашим разумом; прусское государство, в особенности, построено на разумных началах. Однако бедствия пережитого нами времени, а также интерес к великим мировым событиям, о которых я уже говорил раньше, вытеснили также и у нас основательное и серьезное занятие философией и отвратили от нее всеобщее внимание. Вышло, благодаря этому, что дельные умы обратились к практическим занятиям, а плоские и поверхностные завладели ареной философии и чванливо на ней расположились. Можно сказать, что с того времени, как в Германии впервые зародилась философия, никогда так плохо не обстояло с этой наукой, как именно в наше время, никогда раньше пустое самомнение не выплывало так на поверхность, никогда оно не говорило и не действовало с такой заносчивостью, как будто власть всецело в его руках. Противодействовать этой поверхностности, сотрудничать с представителями немецкой серьезности и честности, чтобы извлечь философию из того одиночества, в котором она искала себе убежище, – к этому, смеем надеяться, призывает нас более глубокий дух времени. Будем приветствовать вместе утреннюю зарю более прекрасного времени, когда дух, до сих пор насильно влекомый вовне, получит возможность возвратиться к себе, прийти в себя и сможет обрести место и почву для своего собственного царства, в котором умы и сердца поднимутся выше интересов сегодняшнего дня и будут восприимчивы к истинному, вечному и божественному, будут способны рассматривать и постигать то, что выше всего другого.
Мы, люди более старого поколения, достигшие зрелого возраста в бурное время, можем почитать счастливыми вас, молодость которых наступает в наши дни, в дни, которые вы можете беспрепятственно посвящать истине и науке. Я отдал свою жизнь науке, и мне радостно находиться теперь на месте, где я в большей мере и в более обширном круге деятельности могу способствовать распространению и оживлению высших научных интересов и, в частности, ввести вас в область этих высших интересов. Я надеюсь, что мне удастся заслужить и приобрести ваше доверие. Пока же я ничего другого не требую, кроме того, чтобы вы, главным образом, принесли с собою доверие к науке и доверие к себе. Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа – вот первое условие философии. Так как человек есть дух, то он смеет и должен считать самого себя достойным величайшего, и его оценка величия и силы своего духа не может быть слишком преувеличенной, как бы он ни думал высоко о них; вооруженный этой верой, он не встретит на своем пути ничего столь неподатливого и столь упорного, чтò не открылось бы перед ним. У скрытой и замкнутой вначале сущности вселенной нет силы, которая могла бы противостоять дерзанию познания; она должна раскрыться перед ним, показать ему свои богатства и свои глубины и дать ему наслаждаться ими.
Предварительные замечания об истории философии
Относительно истории философии нам невольно приходит в голову мысль, что хотя она, разумеется, представляет большой интерес, когда ее предмет рассматривается с достойной точки зрения, она, однако, все еще сохраняет свой интерес даже и в том случае, если понимают ее цель превратно. Может, пожалуй, даже казаться, что этот интерес возрастает в своем значении по мере того, как становится более превратным представление о философии и о том, чтò может дать для этого представления ее история, ибо преимущественно из истории философии черпают доказательство ничтожности этой науки.
Следует признать справедливым требование, чтобы история какого бы то ни было предмета сообщала факты без предвзятости, без стремления достичь осуществления частного интереса и частной цели. Но с этим требованием, представляющим собою общее место, мы далеко не продвинемся, ибо история предмета необходимо связана теснейшим образом с представлением, которое составляют себе о нем. Уже то, чтò мы считаем важным и целесообразным для истории этого предмета, определяется соответственно представлению, составляемому нами о нем, а связь между совершающимся и целью влечет за собою выбор подлежащих обсуждению событий, а также определенный способ их понимания и определенные точки зрения, с которых они рассматриваются. Таким образом, может случиться, что, смотря по представлению, которое составляют себе, например, о том, чтò такое государство, читатель как раз не найдет в политической истории страны ничего из того, чтò он в ней ищет. Еще больше это может иметь место в истории философии, и можно указать такие изложения этой истории, в которых найдем все, но только не то, чтò мы считаем философией.
В историях других наук представление об их предмете, по крайней мере в главных его чертах, вполне ясно; мы знаем, что этим предметом является определенная страна, определенный народ или человеческий род вообще, или определенная наука: математика, физика и т. д., или определенное искусство, например живопись, и т. д. Но наука философии обладает той отличительной чертой, или, если угодно, ей присущ тот недостаток по сравнению с другими науками, что сразу же имеют место различные воззрения относительно ее понятия, относительно того, чтò она должна и может давать. Если эта первая предпосылка, представление о предмете философии, оказывается шаткой, то и сама история вообще необходимо окажется чем-то шатким, и лишь постольку сделается устойчивой и крепкой, поскольку она будет иметь своей предпосылкой определенное представление, но в таком случае она при сравнении представления, лежащего в ее основании, с другими представлениями на тот же предмет легко может навлечь на себя упрек в односторонности.
Но указанное невыгодное положение истории философии касается только внешней ее стороны; с этим связан, однако, другой, более глубокий недостаток. Если существуют различные понятия о науке философии, то только истинное понятие делает для нас возможным понимание произведений тех философов, которые философствовали, исходя из последнего. Ибо по отношению к мыслям и, в особенности к спекулятивным мыслям, понимать означает нечто совершенно другое, чем лишь улавливать грамматический смысл слов; здесь понимать не может означать – воспринимать их в себя и все же давать им проникнуть лишь до области представления. Можно поэтому быть знакомым с утверждениями, положениями или, если угодно, мнениями философов, можно потратить много труда, чтобы ознакомиться с основаниями этих мнений и дальнейшей разработкой их, и при всех этих стараниях не достигнуть главного, а именно понимания рассматриваемых положений. Нет поэтому недостатка в многотомных и, если угодно, ученых историях философии, в которых нет познания самого предмета, на изучение которого положено в них столько труда. Авторов таких историй можно сравнить с животными, прослушавшими все звуки музыкального произведения, но до чувства которых не дошло только одно – гармония этих звуков.
По отношению к философии, более чем по отношению к какой-либо другой науке, указанное обстоятельство делает необходимым предпослать ей введение и в нем правильно определить сначала предмет, история которого будет излагаться. Ибо каким образом начать обсуждать предмет, название которого нам, правда, привычно, но о котором мы еще не знаем, чтò он собою представляет? При таком способе обращаться с историей философии мы не могли бы руководствоваться ничем иным, как только стремлением отыскивать и вводить в состав этой истории все то, чему где-либо и когда-либо давалось название философии. Но на самом деле, если мы желаем установить понятие философии не произвольно, а научно, то такое исследование превращается в самое науку философии. Ибо своеобразная черта этой науки состоит в том, что в ней ее понятие лишь по-видимому составляет начало, а на самом деле лишь все рассмотрение этой науки есть доказательство и, можно даже сказать, само нахождение этого понятия; понятие есть по существу результат такого рассмотрения.
В нашем введении поэтому тоже приходится предполагать известным понятие науки философии, предмета ее истории. Но в целом, вместе с тем, мы должны сказать об этом введении, которое должно иметь дело лишь с историей философии, то же самое, чтò мы только что сказали о самой философии. То, чтò может быть сказано в этом введении, представляет собою не только то, что должно быть установлено заранее, а скорее то, что может быть оправдано и доказано изложением самой истории. Лишь потому эти предварительные объяснения не могут быть отнесены к разряду произвольных предпосылок. Поместить же вначале эти объяснения, которые по своему оправданию представляют собою по существу результат, можно лишь с той выгодой, какую вообще может иметь помещенный в самом начале перечень наиболее общего содержания данной науки. Они должны служить к тому, чтобы отклонить много вопросов и требований, которые, следуя обычным предрассудкам, можно было бы предъявлять к такого рода истории.
Введение в историю философии
Можно находить интерес в истории философии с разных точек зрения. Если мы желаем найти сердцевину этого интереса, мы должны ее искать в существенной связи, существующей между тем, что кажется отошедшим в прошлое, и той ступенью, которой философия достигла в настоящее время. Что сама эта связь не есть лишь одно из внешних соображений, которые могут быть приняты во внимание при изложении истории этой науки, а скорее выражает ее внутреннюю природу; что, хотя события этой истории, подобно всем другим событиям, находят свое продолжение в своих результатах, они вместе с тем обладают своеобразной творческой силой, – именно вот это мы намерены здесь точнее разъяснить.
История философии показывает нам ряд благородных умов, галерею героев мыслящего разума, которые силой этого разума проникли в сущность вещей, в сущность природы и духа, в сущность бога, и добыли для нас величайшее сокровище, сокровище разумного познания. События и деяния, составляющие предмет этой истории, поэтому суть такого рода, что в их содержание и состав входят не столько личность и индивидуальный характер этих героев, сколько то, чтò они создали, и их создания тем превосходнее, чем меньше эти создания можно вменять в вину или заслугу отдельному индивидууму, чем больше они, напротив, представляют собою составную часть области свободной мысли, всеобщего характера человека, как человека, чем в большей степени сама эта лишенная своеобразия мысль и есть творческий субъект. Она в этом отношении противоположна политической истории, в которой индивидуум является субъектом деяний и событий со стороны особенности своего характера, гения, своих страстей, силы или слабости своего характера и вообще со стороны того, благодаря чему он является именно данным индивидуумом.
На первый взгляд кажется, что эти акты мышления принадлежат истории, отошли в область прошлого и лежат по ту сторону нашей действительности. Но на самом деле то, чтò мы есть, являет собою вместе с тем нечто историческое, или, выражаясь точнее, подобно тому как в том, что лежит в этой области, в истории мысли, прошлое представляет собою лишь одну сторону, так и в том, чтò мы представляем собою, общее, непреходящее неразрывно связано с тем, чтò мы представляем собою как принадлежащие истории. Обладание самосознательной разумностью, присущее нам, современному миру, не возникло сразу и не выросло лишь на почве современности, а его существенной чертой является то, что оно есть наследие и, говоря точнее, результат работы всех предшествовавших поколений человеческого рода. Подобно тому как искусства, служащие устройству внешней жизни, масса средств и сноровок, учреждения и привычки общежития и политической жизни суть результат размышления, изобретательности, нужды и бедствий, находчивости и остроумия, стремления и свершения предшествовавшей нашей современности истории, точно так же и то, чтò мы представляем собою в науке и, ближе, в философии, тоже обязано своим существованием традиции, которая через все, что преходяще и что поэтому минуло, тянется, по сравнению Гердера1, словно священная цепь, и она сохранила и передала нам все, что произвели предшествовавшие поколения.
Но эта традиция не есть лишь домоправительница, которая верно оберегает полученное ею и, таким образом, сохраняет его для потомков и передает им его не умаленным, подобно тому как течение природы, в вечном изменении и движении ее образов и форм, остается навсегда верным своим первоначальным законам и совсем не прогрессирует. Нет, традиция не есть неподвижная статуя: она – живая и растет подобно могучему потоку, который тем больше расширяется, чем дальше он отходит от своего истока. Содержанием этой традиции является то, чтò создал духовный мир, а всеобщий дух никогда не останавливается в своем движении. Здесь же нас существенно интересует именно всеобщий дух.
С отдельным народом может, правда, случиться, что его образованность, искусство, наука, вообще его духовное состояние приходит в состояние застоя, как это, напр., произошло, по-видимому, с китайцами, которые две тысячи лет тому назад во всем, может быть, находились в том же состоянии, в котором они находятся ныне. Но мировой дух не впадает в равнодушное спокойствие; это его свойство имеет своим основанием простое понятие духа, согласно которому его жизнью является его деяние. Это деяние имеет своей предпосылкой наличие известного материала, на который оно направлено и который оно не только умножает, не только расширяет, прибавляя к нему новый материал, но и существенно обрабатывает, преобразует. Созданное каждым поколением в области науки и духовной деятельности есть наследие, рост которого является результатом сбережений всех предшествовавших поколений, святилище, в котором все человеческие поколения благодарно и радостно поместили все то, чтò им помогло пройти жизненный путь, чтò они обрели в глубинах природы и духа. Это наследование есть одновременно и получение наследства, и вступление во владение этим наследством. Оно является душой каждого последующего поколения, его духовной субстанцией, ставшей чем-то привычным, его принципами, предрассудками и богатствами; и вместе с тем это полученное наследство низводится получившим его поколением на степень предлежащего материала, видоизменяемого духом. Полученное, таким образом, изменяется, и обработанный материал именно потому, что он подвергается обработке, обогащается и вместе с тем сохраняется.
Такова также позиция и деятельность нашей и всякой другой эпохи: мы постигаем уже существующую науку, усваиваем ее, приспособляемся к ней, и тем самым мы ее развиваем дальше и поднимаем ее на более высокий уровень; усваивая ее себе, мы делаем из нее нечто свое в противоположность тому, чем она была раньше. От этой природы творчества, заключающейся в том, что оно имеет своей предпосылкой наличный духовный мир и что, усваивая его себе, оно вместе с тем и преобразовывает его, – от этой природы творчества и зависит то, что наша философия может обрести существование лишь в связи с предшествующей и с необходимостью из нее вытекает; ход истории показывает нам не становление чуждых нам вещей, а наше становление, становление нашей науки.
Природа указанного здесь отношения обусловливает характер представлений и вопросов, могущих у нас возникнуть относительно задачи истории философии. Понимание этого отношения выясняет нам вместе с тем субъективную цель изучения истории философии. Эта субъективная цель состоит в том, чтобы путем изучения истории этой науки быть введенным в самое эту науку. В вышеуказанном отношении между историей философии и самой философией заключается также указание на те принципы, которыми мы должны руководствоваться при трактовке этой истории, и более точное уяснение этого отношения должно быть поэтому одной из главных целей нашего введения. При этом мы, разумеется, должны также принять во внимание понятие той цели, которую ставит себе философия, и даже можно сказать, что это понятие должно лечь в основу пояснения. И ввиду того, что, как мы уже упомянули, научный разбор этого понятия не может иметь здесь места, то разъяснения, которые мы должны здесь дать, могут лишь иметь своей целью не доказать посредством постижения в понятии природу становления философии, а скорее дать о ней предварительное представление.
Это становление не есть лишь бездеятельное происхождение, подобное тому, чтò мы представляем себе под происхождением, напр., солнца, луны и т. д.; оно не есть только движение в не оказывающей противодействия пространственной и временнòй среде. Нет, перед нашим представлением должны проходить деяния свободной мысли, мы должны изобразить историю мира мыслей, изобразить, как он возник и как он породил себя. Старинное вкоренившееся убеждение полагает, что в мысли состоит именно отличие человека от животного; мы не отказываемся от этого убеждения. Согласно последнему, все то, что человек имеет в себе более благородного, чем животная его природа, он имеет благодаря мысли; все, что человечно, как бы оно ни выглядело, человечно лишь благодаря тому, что в нем действует и действовала мысль. Но хотя мысль и есть, таким образом, существенное, субстанциальное, действенное, она все же имеет дело с многообразными вещами. Однако, строго говоря, наипревосходнейшей следует почитать ту деятельность мысли, которая исследует не другое и занята не другим, а которая занята самой собою – именно самым благородным, которая искала самое себя и самое себя открыла. История, развертывающаяся перед нами, есть история нахождения мыслью самой себя, а с мыслью дело обстоит так, что, только порождая себя, она себя находит: дело даже обстоит так, что лишь тогда, когда она себя находит, она существует и действительна. Системы философии суть эти акты порождения, и ряд этих открытий, в которых мысль ставит себе целью открыть самое себя, представляет собою работу двух с половиной тысячелетий.
Но если мысль, которая существенно есть мысль, есть вечная, сущая в себе и для себя, а все то, чтò истинно, содержится только в мысли, – то каким образом этот интеллектуальный мир доходит до того, чтобы иметь историю? В истории изображается то, чтò изменчиво, чтò минуло и ушло в ночь прошлого, то, чего уже нет; истинная же, необходимая мысль – а лишь о такой мысли здесь идет речь – не может подвергаться изменению. Этот вопрос должен быть рассмотрен нами в первую очередь. Но, во-вторых, нам непременно должно прийти в голову, что существует еще много других важнейших продуктов творчества, которые также представляют собою произведения мысли и которые мы, однако, исключаем из нашего рассмотрения. Таковы – религия, политическая история, государственное устройство, искусства и науки. Спрашивается: чем отличаются эти произведения мысли от тех, которые составляют наш предмет? И вместе с тем спрашивается также: каково их отношение друг к другу в истории? Об этих двух вопросах следует сказать все необходимое для того, чтобы мы могли ориентироваться, в каком смысле здесь излагается история философии. Кроме того, нужно, в-третьих, иметь общий обзор, раньше чем перейти к частностям; в противном случае мы из-за частностей не увидим целого, из-за деревьев – леса, из-за философских систем – философии. Дух требует, чтобы он получил общее представление о цели и назначении целого, дабы он знал, чего ему нужно ожидать; подобно тому как мы желаем обозреть ландшафт в целом, который исчезает, когда начинают останавливаться на отдельных его частях, так и дух хочет видеть отношение отдельных систем философии к всеобщему; ибо отдельные части обладают на самом деле своей главной ценностью лишь через их отношение к целому. Ни к чему это так не относится, как к философии и затем к ее истории. В истории, может казаться, это установление всеобщего несколько менее необходимо, чем в науке в собственном смысле слова. Ибо история кажется на первый взгляд последовательным рядом случайных событий, в котором каждый факт стоит сам по себе, совершенно изолированно от других, и она показывает нам лишь временную связь между ними. Но уже в политической истории мы этим не удовлетворяемся; мы познаем или, по крайней мере, чувствуем в ней необходимую связь, в которой отдельные события получают свое особенное место и свое отношение к некоторой цели, приобретают, следовательно, значение. Ибо значительное в истории значительно лишь благодаря своему отношению к некоему всеобщему и своей связи с ним. Иметь перед своими глазами это всеобщее означает поэтому понять смысл.
Я буду поэтому заниматься в своем введении лишь следующими пунктами.
Первым нашим делом будет разъяснение сущности истории философии: рассмотрение ее значения, понятия и цели; и отсюда будут вытекать выводы относительно способа ее трактовки. В особенности отсюда получится ответ на наиболее интересный вопрос об отношении истории философии к самой науке философии, т. е. мы отсюда увидим, что она не только изображает лишь внешнее, происшедшее, события, составляющие содержание, а изображает, каким образом историческое содержание само входит в науку философии; что сама история философии научна и, скажем еще больше, становится в главном наукой философии.
Во-вторых, мы должны точнее установить понятие самой философии, и из этого понятия мы должны вывести, чтò должно быть выделено в качестве философии из бесконечного материала и многообразных сторон духовной культуры народов. Ведь независимо от всего прочего религия и мысли в ней и о ней, в особенности принявшие форму мифологии, столь близко соприкасаются с философией благодаря своему материалу, равно как и остальные науки, мысли греков о государстве, обязанностях, законах и т. д., столь близки философии благодаря своей форме, что история этой науки должна, кажется, иметь совершенно неопределенный объем. Можно думать, что история философии должна рассматривать все эти мысли. Чтò, собственно говоря, не называли философией и философствованием? С одной стороны, нужно ближе рассмотреть тесную связь, в которой философия находится с родственными ей областями, с религией, искусством, остальными науками, а также с политической историей. С другой стороны, когда мы отграничим как следует область философии, мы, вместе с определением того, чтò такое философия и чтò входит в ее область, получим также начальный пункт ее истории, которую нужно отличать от начатков религиозных воззрений и богатых мыслью чаяний.
Само понятие предмета, которое получается после рассмотрения этих двух вопросов, должно наметить путь к выполнению третьей задачи, должно определить характер общего обзора хода этой истории и ее деление на необходимые периоды; это деление должно показать ее органически прогрессирующим целым, разумной связью, и благодаря единственно лишь этому сама история философии приобретает достоинство науки. Но я при этом не задержусь на всякого рода размышлениях о пользе истории философии и о других способах ее трактования. Польза и без того очевидна. Наконец, я еще буду говорить об источниках истории философии, так как это вошло в обычай.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе