Методы практической психологии. Раскрой себя
Текст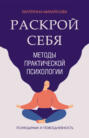


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 44,90 ₽
- Объем: 360 стр.
- Жанр: практическая психология, психологические тренинги, психотерапия, саморазвитие / личностный рост, социальная психология
Еще одна особенность делает психодраматическую работу с семейной историей невероятно привлекательной в терапии – а может быть, и не только в терапии. Как представляется, такая работа могла бы иметь мощный, в том числе и терапевтический эффект и резонанс в группах, состоящих из социально активных людей. Вошедшее в моду в 90-е изыскание дворянских родословных вряд ли может заменить исследование своего семейного мифа и его влияния на реальные жизненные выборы, позицию, убеждения. Поскольку это групповая работа, и она делается в пределах одной культуры, одной истории, возникает мощнейшее сопереживание, может быть, даже более мощное, более целительное, чем это бывает в «обычной» психодраме.
У большей части группы конечно же в семейной истории есть репрессированные родственники, дети, умершие от голода, люди, исчезнувшие бесследно, люди, которых превратности отечественной истории бросали, как пылинки, с места на место, отрывая от корней и лишая их семейного контекста, чувства принадлежности, памяти. «На братских могилах не ставят крестов» – это ведь не только о безымянных солдатах, это и обо всех, в списках не значившихся и без вести пропавших, об отведенных глазах и опечатанных дверях, о переставших здороваться соседях и еще очень о многом. Это «многое» – и плохое, и хорошее – нутром ощущает каждый, кто жил и воспитывался «от Москвы до самых до окраин».
И то переживание, связанное с собственным семейным преданием, которое получает вспомогательное лицо, садясь на поставленный для него протагонистом стул прадедушки, крайне важно. Как и в любой психодраме, во вспомогательных ролях тоже происходит терапевтическое воздействие, а порой и катарсис. Иногда акцент, добавленный вспомогательным лицом при повторении текста, данного ему протагонистом, или какое-то небольшое дополнение, буквально пара слов, оказываются удивительно точными, удивительно правильными, выполняющими совершенно отчетливую терапевтическую функцию. Когда внук сгинувшего в казахстанской ссылке учителя играет чьего-то прадеда, воевавшего с басмачами, а правнучка красавицы-попадьи – еврейскую красавицу из предместья Витебска времен Шагала, это действительно меняет взгляд на «свое» и «чужое».
В этом смысле очень интересен выбор людей из группы на вспомогательные роли. Для тех, кто хорошо знаком с психодрамой, это не будет удивительным, но, на мой взгляд, особого внимания заслуживает то, что очень часто на роли важных для действия предков выбираются люди, которые могут соотнестись с таким (иногда очень специфическим) опытом.
Стиснутые зубы ни в чем не повинного человека, чью жизнь и надежды переехало «красное колесо», буквально и символически оставили следы на единственной вещи, перешедшей от него к внуку.
Вероятность «встречи» двух черешневых мундштуков теоретически почти равна нулю, однако такого рода «встречи» происходят на каждой группе. Это создает дополнительные смыслы и становится источником сопереживания и поддержки. Один из участников сказал: «Мы, внуки и правнуки выживших, пришли не только облегчить свою боль, но и поделиться их силой. Наши мертвые нас не оставят в беде».
Приведу еще один пример. Молодая женщина работает со своим семейным древом. Речь заходит о дедушке, который был человеком кротким, мирным пасечником и имел удивительный почерк, по этой причине к нему всегда обращались, когда нужно было красиво написать письмо. Поскольку он был калекой и не воевал, к нему в войну шли с особым почтением и надеждой: он писал письма на фронт. Как всякий грамотный человек с творческой жилкой, он не только писал под диктовку, но и немножко редактировал, делал формулировки более чувствительными, поправлял невольную корявость устной речи этих женщин. Писал он и прошения властям о каком-нибудь репрессированном родственнике, и почетные грамоты для сельсовета.
Этот фантастический почерк в какой-то мере определил и его жизнь, и отношение к нему окружающих; он был их голосом для дальнего, не очень понятного, страшноватого мира – с войнами, городской властью, людьми, которые приезжают верхом или на машинах. Фигура для «родового древа» очень важная: человек не совсем обычной жизни, летописец семьи, «переводчик» для многих, обращавшихся к нему за помощью, он самим своим существованием и мирной безболезненной кончиной словно бы являл контраст другим мужским персонажам рода – ни один не умер своей смертью.
Молодой человек, которого протагонистка вводит в роль дедушки-пчеловода с прекрасным почерком, упоминает какую-то деталь этого почерка – мол, особо кругло выписывал округлые буквы и умел поставить красивый легкий росчерк, вот такой… А человек, бывший в роли, говорит, что у него был дед, который дивно писал и резал по дереву. Вообще у него были замечательные руки, которые умели делать не только деревенскую, но и тонкую ювелирную работу, – это отличало его от других людей. Он его живым не застал, дед достаточно рано умер, но почему-то ему привиделся этот росчерк – вот такой – и круглые буквы. Пораженная протагонистка говорит: «Да, у меня есть несколько писем, написанных рукой деда, там действительно круглые буквы и легкий росчерк». Такие маленькие «чудеса» имеют не самостоятельное значение, а говорят о том, как сильны и пронзительны именно детали быта, уклада. Того мира, где люди читали, писали, одевались, ели, рождались и умирали, хоронили близких и отмечали семейные даты… Мира, который не однажды отнимали у рода войны, революции, – а совсем отнять все равно не получилось.
Наиболее сильное эмоциональное вовлечение вспомогательных лиц, а часто и момент доступа протагониста к подавленным чувствам исходит от этих маленьких деталей – общих, понятных большинству присутствующих. Это тоже своего рода поэзия, а не «этнография»: упоминавшиеся прадедом какие-то немыслимые «голубые пряники» (?) – символ невероятного изобилия, чего душе угодно, праздничной атмосферы то ли тульской, то ли рязанской ярмарки – не требуют буквального толкования. Эти пряники – не «кондитерское изделие», а слово из всех поговорок, где пряник противопоставлен кнуту, голоду, жизни без праздников и подарков. Мы тогда на группе враз заулыбались, и каждый – независимо от образования, этнических или социальных корней, любви или нелюбви к пряникам и ярмаркам – вспомнил те образы радости, мира, изобилия, какие имели хождение в собственной семье. В той группе все это так и назвалось – «историями про голубые пряники»: все они про то, что хорошо в этой жизни все-таки бывает, и отец с того самого базара привезет детям гостинцы, и все еще живы и вместе – какие бы испытания ни настали потом, это не заставит забыть о том, что предки-то наши не только страдали и преодолевали!
Надо ли говорить, что групповая работа с «семейным древом» учит и ведущего, и группу уважению к культурным различиям, вот хотя бы к этим – не всегда даже и понятным сразу – деталям. Все мы знаем, как в семейном контексте за каким-нибудь сущим пустяком – кто как накрывает на стол, с какими праздниками поздравляет, как ведет себя на поминках – немедленно открываются пропасти, разделяющие людей на «тех» и «этих». Страх и неприязнь к чужому, потенциально враждебному укладу избирает свои символы: что можно хорошего ожидать от людей, которые вот так говорят, едят или отдыхают? То, что все мы в известной мере «не местные», поскольку у каждого в семейной истории переплелись самые разные и далеко не всегда благостно уживающиеся в нашем семейном предании персонажи, заставляет через собственную многопоколенную историю посмотреть иначе и на свои сегодняшние стереотипы, а через участие в психодраматической работе других – иначе понять и прожить что-то свое, сугубо семейное.
Если в группе есть атмосфера поддержки и понимания, опыт коллективного переживания становится и опытом межкультурного познания. Мы слышали на терапевтических сессиях и молитвы на разных языках, и погребальный плач, и колыбельные разных мест, и поговорки на диалектах…
Не будем забывать, что люди, приходящие в такие группы, сами выбрали и тему, и формат, и конкретное место для своей работы. Дело тут далеко не только в клинико-психологических «показаниях». В конце концов, есть много других способов работать с любой проблемой, и психотехнический миф геносоциограммы кому-то близок, а кому-то нет. Внедрение в «широкую практику», к счастью, этому роду работы не грозит – трудоемка, временами эмоционально тяжела, имеет дело со сложными и неоднозначными явлениями, зависит от пресловутой «атмосферы».
К примеру, я точно знаю по опыту – и коллеги подтверждали в приватных разговорах, – что психодраматическая проработка отдаленной семейной истории может иметь прекрасные результаты у женщин, страдающих бесплодием неясного генеза. В нескольких городах подрастают «крестники» тех групп, тех психодраматических исследований семейных сценариев.
Но представим себе, что соответствующая научная разработка – с цифирью, с «внедрением» – стала реальностью. И вот сидит в своем халатике бедная женщина, замученная анализами и обследованиями, в коридоре солидной клиники, и подходит к ней строгая и подтянутая девица-психолог: «Вера Николаевна, сейчас мы с вами будем рисовать вашу генограмму…» Ничего хорошего из этого, скорее всего, не выйдет, только человека еще полтора часа будут морочить чем-то, что так же чуждо и непонятно, как и любые другие обследования. Но я знаю случай, когда одной студентке удалось после нескольких невыношенных и мертворожденных младенцев родить здорового ребенка – и она даже не ходила к психотерапевту. Более того, она и на лекции ко мне не ходила, будучи почти на сносях, а пришла уже прямо на экзамен. Достойно ответила первый вопрос, а по второму сделала самостоятельный разбор «Синдрома предков» с примерами из собственной семейной истории. Молодая женщина увидела в подходе возможный смысл для себя – и самостоятельно добыла этот смысл. Возможно, ее «психотерапевтическая авантюра» кому-то покажется слишком самонадеянной, но я бы смотрела на этот сюжет не как на образец для подражания, а как на метафору позиции клиента по отношению к психотерапии. Выбор и готовность следовать за своим выбором, самостоятельный душевный труд, не вполне объяснимое, но совершенно реальное ощущение «щелчка» – так и говорят обычно в группах: «щелкнуло», «цапануло», «отозвалось».
Так называемая эффективность начинается со свободы выбрать для себя время, место, ведущего, группу, подход, дополнительное чтение. Это вполне соотносится с содержательной стороной работы, с методом: когда мы говорим, что протагонист «всегда прав» или «ищет свою правду», мы говорим не только о том, что готовы его оберегать от некорректных вмешательств (своих в том числе), не только об ограничениях в навязывании интерпретаций, но и о том, что никто не может сделать за него его работу. «Авторское право» означает и ответственность: никто не может влезать в мою работу со своими оценками и интерпретациями – а значит, никто ее за меня не может сделать.
Чтобы в реальной группе, состоящей из разных и порой не имеющих опыта ни такой, ни вообще какой бы то ни было психотерапии людей, началась такая работа, нужно вместе с группой создать атмосферу, общий язык, непривычную концентрацию чувств и ассоциаций. Но и этого мало: один из главных эффектов групповой психотерапии – это возможность брать «свое» в работах других людей. Это тоже не приходит само, но психодрама умеет этому учить. Посмотрим более внимательно на те аспекты групповой работы с семейной историей, которые официально следовало бы назвать «методическими».
Приближаясь к «семейному древу»
Структура терапевтической сессии традиционна для психодрамы: разогрев – психодраматическое действие – обмен чувствами (шеринг). Традиционна и логика построения сессии – «от периферии к центру», что означает постепенное приближение к главному, к ключевым фигурам и ситуациям. В начале групповой работы с участниками принято устанавливать договоренность о непричинении физического ущерба (друг другу и себе), конфиденциальности, праве отказаться от любых предложений ведущего группу, а также о паузе – обычно это 48 часов, двое суток, – которую стоит выдержать, прежде чем принимать какие бы то ни было решения или вступать в прямые коммуникации с реальными людьми из своего окружения, если эти решения и коммуникации как-то «навеяны» опытом участия в группе. Понятно, что эти договоренности нужны: эмоциональный накал работы может быть велик, катарсис или неожиданно возникшие догадки делают человека уязвимым, а группа может и не оценивать всю меру этой уязвимости. Традиция такого контракта с психодраматическими группами сложилась неспроста, она разумна. Однако начинать с договоренностей – как, впрочем, и с разговоров о целях и ожиданиях – мне кажется неточным: когда договариваешься, важно понимать, с кем, и ожидать от работы в разных группах следует разного. Поэтому разогрев – это не просто настройка, знакомство и создание общего поля взаимодействия, это еще и постепенная актуализация тем «периферии», еще не слишком значимых, но уже имеющих отношение к общей теме нашего психотерапевтического путешествия.
Вот когда уже завибрируют невидимые «струны», настраивающие группу на контакт с историей и ее персонажами, когда голоса станут громче и глаза заблестят непрошеной слезой от совсем, казалось бы, нейтральных вопросов, – тогда можно и о правилах договариваться. Потому что становится понятно, что дело нешуточное и друг друга и вправду придется беречь и поддерживать, а в кругу еще недавно посторонних людей уже видны лица, слышны разные голоса. Чем богаче образы и чувства в разогревах, тем быстрее можно перейти к первым психодраматическим работам, и для короткого – двух- или трехдневного – формата логика «углубления» в материал примерно такова: от коротких работ – к более подробным, от диалога – к хору, от отдельных фигур и сюжетов – к ожившей геносоциограмме, к семейному «древу». И если короткие работы делают все желающие, то для «больших» протагонист обычно выбирается социометрически – это позволяет следовать за «главными темами» группы.
Разогрев, как ни странно, может быть достаточно прост – возможно, проще, чем когда мы начинаем обычную психодраму. Например, я предлагаю группе разбиться на пары и поговорить со своим партнером о какой-нибудь старой вещи, живущей в семье. Это не обязательно семейная реликвия в прямом смысле слова (далеко не в каждой семье в России они есть, слишком часто семьи бросало с места на место, слишком много было войн, пожаров, репрессий, слишком бедно жили наши предки, чтобы нить передачи материального духа семьи не прерывалась).
Предлагается вспомнить вещь, которая живет в семье больше одного-двух поколений, рассказать об этой вещи своему партнеру и услышать в свою очередь его рассказ. Потом мы садимся в круг, и я предлагаю назвать по желанию, не обязательно всем, те предметы, старые вещи, которые есть в нашей группе. Это бывали семейные иконы, доставшиеся от бабки, рамка от портрета, который давно утерян, серебряная ложка «на зубок», швейная машинка «Зингер», грошовые сережки или какой-нибудь допотопный фотоаппарат… Когда называются эти предметы, в каждом из них материализуется какой-то кусок истории, и немедленно возникают сильнейшие творческие и, естественно, основанные на памяти собственной семьи фантазии о том, что за вещь, откуда взялась, чья, зачем, о чем она говорит. Порой такого разогрева бывает достаточно для того, чтобы появились первые протагонисты, готовые понять что-то новое о своем роде, своей семье.
Другой короткий и простой разговор в парах – о том, как в семье принято было выбирать имена детям, какие имена сохранились в семейном предании, а заодно – и о том, «что такое для меня мои имя и отчество». В России обычно человек имеет отчество, хотя далеко не всякий имеет отца, и так уже в течение нескольких поколений. До самого конца своей жизни мы, взрослые люди, называемся Софьями Зиновьевнами, Владимирами Михайловичами, Шавкатами Нуралиевичами… Эта память о том, как звали отца, сопутствует нам всю жизнь; порой и не задумываясь о «связи поколений» и «культурной идентичности», мы носим знаки принадлежности к роду; и даже на памятниках бывает высечено напоминание о том, что поставлены они чьим-то потомкам: «Зубова Анна Алексеевна. 1905–1995». Фамилию Анна Алексеевна, возможно, и поменяла – даже и не раз, а вот имя отца, которого давно нет на свете, пребудет с ней навсегда… Этот разогрев «включает» характерную для российских групп тему утраченных, отнятых, уведенных историей отцов – погибших на фронте, репрессированных, спившихся. В терапевтических группах тема ушедших отцов звучит очень мощно и скорбно, далеко выходя за рамки бытовых сюжетов о «неполных семьях». Тут особая печаль, особый гнев: даже на историях о семье, распавшейся по сугубо личным причинам, лежит отсвет тех пожаров, в которых сгорел традиционный уклад.
Еще один разогрев, тоже тематический, тоже очень простой. В парах участники семинара с самого начала говорят о том, какие физические черты в их роду существуют больше одного поколения. Все эти фамильные носы, рост, цвет волос, цвет глаз, фигура и т. д. – об этом говорят в каждой семье. Ведь когда рождается ребенок, буквально второй вопрос после выяснения мальчик или девочка – на кого похож. Стало быть, важно. Эти самые физические сходства (понятно, что у них есть и генетическая, объективная сторона) отнюдь не поверхностны: человеку важно походить на кого-то в своем роду, на самого ли красивого, на самого любимого, на самого ли главного, быть своим. Мы всю жизнь носим на себе и в себе массу признаков принадлежности не просто к своей родительской семье, но и к роду. Работа с «негенетической» наследственностью, таким образом, очень стимулируется, разогревается.
Бывало, что эти три разогрева проводились один за другим подряд или по отдельности, порой предлагались другие – понятно, что нет одного «правильного» начала группы, а есть принцип «от периферии к центру», следуя которому можно сконструировать десятки конкретных упражнений. Работа с семейной историей тяжела не только эмоционально, в силу материала, но и требует значительного времени – для того, чтобы к моменту построения «семейных деревьев» и особенно работы со сверхтяжелыми травмами группа была готова к этому и эмоционально, и технически, нужна осторожная «настройка». Что важно и кто важен особенно? Готовы ли мы углубляться в связанные с этими фигурами чувства?
Порой на первых двух сессиях делаются психодраматические «виньетки» – встречи со значимым предком. Это короткая работа, она может занимать от 20 до 40 минут, а иногда совсем короткая – 7–10 минут, просто разговор с кем-то из своих значимых, важных предков, с которым почему-то хочется этого контакта: спросить ли что-то, сказать ли что-то, поругаться, подержать за руку. Здесь бывают очень разные эмоциональные окраски, очень разные мотивы и потребности. Так в психодраматическом пространстве и появляются эти тени – любимые, ненавистные, загадочные (или, наоборот, слишком «прописанные», как на парадном портрете) – члены рода, семьи, которые по той или иной причине важны для протагониста. Надо заметить, что внутренняя идентификация с каким-нибудь дальним предком или продолжающийся внутренний конфликт с ним – совсем не редкое явление.
Представим себе, что в семье существует некий прадед, первый в этом роду выбившийся в люди, достигший успеха, удостоенный еще царских наград. Для нескольких поколений он – образец, эталон, человек, с которого род как бы начался, хотя фактически это не так. Такой прадед, что называется, обязывает. Это как тот портрет из семейной галереи, который смотрит пристально и словно задает вопрос: «А достаточно ли ты хорош? А что ты сделал со своей жизнью?» Этот полуфантастический и легендарный прадед имеет шансы стать в высшей степени значимой фигурой, особенно учитывая упомянутую выше травму – дефицит отцовских фигур в нашей культуре.
Когда происходит психодраматическое общение с таким персонажем, ему задают вопросы – об обстоятельствах его жизни, о том, чем, например, для него был успех, его дети, чего он ожидал от своих сыновей. Конечно же протагонист, задавая эти вопросы, идет не за объективной историей, а за своей правдой: за разрешением, благословением, за собственной внутренней отцовской фигурой – отцом, который не только суров и справедлив, но еще может поддержать, пошутить, положить руку на плечо. В психодраме это возможно сделать физически, буквально. Протагонист, конечно, прекрасно понимает, что не та рука лежит у него на плече, – поскольку сам же и выбрал другого участника группы на эту роль (а в конце работы еще и выведет из роли).
Эта условность метода не только не мешает почувствовать поддержку, но, напротив, словно бы напоминает нам: главное внутри, мы работаем не с внешними фигурами и событиями, мы лишь на время их «овнешняем», чтобы трансформировать переживание, ощущение. Вообще сама структура техник – того же обмена ролями – содержит в себе дополнительные «сообщения», имеет смысл. Выбирая на роль какой-нибудь легендарной прабабки другую участницу группы – молодую или нет, похожую на прабабушку внешне или не очень, – протагонист словно бы признает: мое представление об этой женщине, мои чувства, связанные с ней, реальны и важны. Настолько, что я могу испытывать их даже в игровой ситуации: это моя психодраматическая правда – а значит, мы работаем не с «тем» человеком (что невозможно), а с моими чувствами. И если в ходе работы они меняются – для меня меняется очень многое.
Виньетки – «встречи» – учат не только техническим аспектам работы, но и крайне важной для этого жанра психодрамы глубокой идентификации с персонажами – и выходу из этой глубокой идентификации, разделению «своего» и «не своего». У каждого в роду были свои святые и злодеи, жертвы и люди, умевшие себя защитить, сумасшедшие и герои, красавицы и чудовища, невинно убиенные и борцы. Семейный миф – он на то и миф (особенно если располагается в единой, фрагментами известной всем нам истории), что в каждой работе на тему предков другие участники группы видят очень много своего, едва ли не больше, чем при обычной психодраматической работе. Мифологический материал имеет это свойство сильного притяжения, крайне богатой, мощной энергетики: игнорировать ее невозможно, но можно приручить и рассмотреть персонаж в деталях, отследить и осознать собственные чувства, выразить их в самой работе или в шеринге.
Шеринг дает возможность не только выразить протагонисту поддержку, сопереживание – это еще и его возвращение в группу, в реальность. При работе с семейной историей имеет смысл говорить о чувствах, возникших по ходу работы протагониста, особенно точно, потому что, как сказал один из участников, «мы потревожили столь серьезные энергии, что теперь должны быть невероятно внимательны к тому гулу, который чувствовали у себя под ногами и у себя в крови». Во время шеринга мы как раз и внимаем этому гулу, прежде чем начнется работа с полным «семейным древом». Когда она начинается, почти вся. группа оказывается в пространстве действия – «семейное древо» большое, ролей хватает всем участникам группы, а иногда даже участников оказывается недостаточно, и тогда мы ставим пустые стулья.
По ходу работы с «семейным древом» – она многоступенчатая и часто далеко отходит от первоначального запроса – обнаруживаются какие-то новые обстоятельства, вспоминаются, переигрываются и разрешаются какие-то отношения, которые в реальности не могли быть разрешены. Например, мать не похоронила бабушку «как следует» по очень важным и существенным причинам, но ее чувство вины, разговоры об этой вине, разумеется, оказали влияние на жизнь протагонистки – и конечно же это может быть «переиграно» в психодраме. А был еще и брат матери, и без вести пропавший на фронте муж бабушки, и две ее сестры, к которым она относилась по-разному и потому к одной ездила, а к другой – нет, и на похороны тоже не поехала… Тема «последнего поклона» в этом роду привязана не к одному факту, не к одним отношениям – и у каждого члена семьи были свои причины и для поступков, и для чувств, и для суждений. Вот когда протагонистка побывает во всех этих ролях, договорит недосказанное, – словно часть непонятной тяжести уходит туда, где эта тяжесть и зародилась, где ей и надо бы упокоиться…
Вся эта длительная, трудная, эмоционально крайне заряженная работа, когда мы имеем дело с «полным древом», часто завершается интеграцией всех сообщений предков, персонажей. Они могут говорить о себе: «Я, Кузьма, построил кузницу на высоком берегу, огонь любил, красивые решетки ковал, а ты – мой праправнук». А могут быть и прямые сообщения протагонисту: «Живи долго, тебе не обязательно умирать в том возрасте, когда умер я». Это могут быть исцеляющие, корректирующие сообщения, благословения, прощения, пожелания, разрешения и многое другое. Иногда отдельные тематические блоки в качестве промежуточного интегрирующего завершения оформляются как серия фотографий из семейного альбома – тех, каких на самом деле нет, но могли бы быть. Вот недавний пример.
Семью разметала война, дед на фронте встретил другую женщину, гордая бабушка его отпустила. («Там ребенок маленький, а мы уже без тебя пять лет жили и дальше проживем».) Безвозвратно изменилась жизнь самой бабушки, ее Дочери и протагонистки – внучки, никогда не видевшей деда. Тяжелая сцена выяснения отношений с дедом и бабушкой заканчивается прощением – что-то хочется взять на память о них, об их короткой любви. Для этой семьи «хорошая», довоенная, жизнь – это парк «Сокольники». Там счастливо и долго жили прадед с прабабкой, там эта самая прабабушка по секрету от партийного зятя-военного сбегала в храм и крестила маму, там «малая родина». И мы делаем крошечную вставную сценку: старая фотография. Бравый дед-курсант, кудрявая молодая бабушка в креп-жоржете, маленькая дочка с бантами и мороженым. Конечно, в Сокольниках. Конечно, вдалеке стучит волейбольный мяч, и патефон играет «Рио-Риту», – группе ничего не стоит создать этот звуковой фон. И все мы знаем, что уже заключен пакт Молотова-Риббентропа и что «двадцать второго июня, ровно в четыре часа…». Знаем, но тем не менее: «Я не думала раньше, как вы оба для меня важны. Спасибо вам просто за то, что вы были, оба. Вы мои бабушка и дедушка, а я ваша внучка, и я вас люблю. Ой, какие вы молоденькие сейчас, моложе меня…»
По ту сторону действия
Одним из приемов завершения работы с полным «семейным древом» – даже когда и протагонисты, и вспомогательные лица уже знакомы с ним, он все равно эмоционально довольно сильно воздействует, – является хор. Техника хора описана Морено, но в семейном древе хор приобретает некоторый дополнительный и важный смысл. Иногда директор просит протагониста, находящегося уже на своем настоящем по отношению к «древу» месте, практически уже завершившего свое путешествие к корням, повернуться спиной к выстроенному в пространстве действия семейному древу и послушать, как оно шелестит. Это означает, что все, кто есть «там», все предки – важные и неважные, позитивные и не очень, живые и мертвые – вполголоса произносят те сообщения, которые были в момент работы даны им протагонистом. Они говорят все одновременно. Слух протагониста выхватывает то одну пару слов, то другую; с края, где материнская ветвь, с края, где отцовская: от близких по времени – мама, бабушка, папа – и от дальних по времени. Все это слышится одновременно, и ощущение многолюдства, полноты, мощи семейного древа при этом очень сильное. Мы находимся на границе межу действием и шерингом, на границе внутренней и внешней реальности, мы готовы дать «свитку» вновь быть свернутым, – на этот момент завершить гештальт. Часто именно в этот момент я спрашиваю у протагониста, можем ли мы закончить. Это сильное ресурсное переживание, на котором как раз такую тяжелую работу хорошо заканчивать.
Для качественного шеринга важно отвести достаточно времени: в силу множественности связей и идентификаций вспомогательных лиц они бывают сильно вовлечены в действие; даже первый круг – шеринг из ролей – обычно бывает долгим и подробным. Особое внимание мы обращаем на снятие ролей (деролинг). Позже, когда роли сняты, сильный эмоциональный отклик также обычно бывает не на одно событие или ситуацию – и представляется важным, что зачастую это разные чувства и воспоминания одного и того же участника группы. В этом разнообразии собственных эмоциональных «участий» в работе протагониста видится глубокий смысл: жизнь рода не сводится к тезисам и плакатным фигурам, есть место и время для похорон и крестин, праздников и будней – и для всего спектра отношений и чувств. Как правило, когда происходит шеринг в такой работе, один и тот же человек говорит не один или два раза, а три-четыре. Крайне важно, чтобы на эмоциональном уровне эта работа была завершена, только тогда будет реализован терапевтический потенциал «психодрамы древа» для других участников группы, а не только для протагониста.
Результаты психодраматической работы с семейной историей так же разнообразны, как и показания к ней, – разумеется, не обо всех «результатах» возможно узнать, и никто не может поручиться за то, что произошло только это, только благодаря работе в группе и тем более – вследствие одной психодрамы. Правильнее было бы сказать, что в какой-то момент участники считают, что это так – по их версии, результаты порой оказываются таковы…
Разрешение реального конфликта с взрослым сыном (запрос на психодраматическое исследование: «Почему в нашем роду отторгают, как бы изгоняют мужчин?»). Интеграция, воссоединение двух ветвей – отцовской и материнской, – расколотых разводом родителей (запрос: «Хочу понять, кто же я на самом деле, чья я?»). Преодоление чрезмерной зависимости от рода и его истории («Они словно ждут от меня чего-то, требуют, – а у меня только одна жизнь»). Отреагирование глубоко подавленного горя, «транслируемого» в трех поколениях («Хотелось бы как-то преодолеть эту каменную маску, это выражение бесчувствия, которое я вижу вокруг с самого детства»).
И даже – рождение желанного ребенка («У нас в роду женщины объявлялись бесплодными, а потом благополучно рожали. Что-то мне подсказывает, что и со мной то же самое, но пока не получается»). Получилось, и прекрасно.
С методической стороны следует отметить особое значение процесс-анализа в работе с семейной историей. В учебных группах подробный разбор завершенных сессий – дело вполне традиционное. Однако именно в данном жанре психодрамы процесс-анализ приобретает дополнительное значение, поскольку в нем особое внимание уделяется историко-культурному контексту. Порой именно этот контекст позволяет изменить понимание внутрисемейных разрывов, конфликтов, тайн или кажущихся немотивированными поступков предков.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽