Колдовство на Руси. Политическая история от Крещения до «Антихриста»
Текст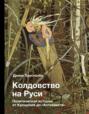


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 54,90 ₽
- Объем: 350 стр.
- Жанр: эзотерика / оккультизм
На земле воплощением религии является Церковь, как организация, заведующая культом. Велико желание представить существование таковой у язычников, чтобы соперником христианства было сопоставимое по форме явление – как в Греции и Риме, где действовали храмы, общины и жреческое сословие. В постановлениях Стоглавого собора (1551 г.) народные игрища названы «еллинскими беснованиями», отсылая именно к древнегреческим верованиям. Однако данные источников не дают никаких указаний на существование на Руси чего-то подобного: ни языческих зданий, ни организации, ни сословия служителей. Иногда историки предлагают использовать аналогии для реконструкции. Например, высказывалось мнение, что раз первые русские христианские церкви были деревянными и возводили их в большом количестве, то навык строительства подобных культовых сооружений уже существовал. Ведь что-то подобное известно в скандинавских странах. Но это только гипотеза.
Позволительно реконструировать очень скудную структуру и неразвитость культа, который предполагал одухотворение сил природы – анимизм. Языческие божества – деревянные идолы, чья дееспособность связана с вселением в них демона – беса, нечистой силы. То, что они творят, – искус и наваждение. Однако понятно, что это некая духовная реальность. Ведь смерть Олега действительно случилась в согласии с предсказанием. А Владимир приносил языческие жертвы, но потом приказал избивать тех же идолов, которые оказались неспособны защитить себя и были низвергнуты.
Князь – сакральный лидер общины, воплощение ее политических волений. Он почти жрец. Он имеет право определять главного бога. Понятно, что ему ближе воинственная сила, грозная и могущественная – небесная. Но духи везде. Все деревья Перун не сожжет, поскольку жизнь на земле иссякнет и некому будет приносить жертвы. Христос – княжеский бог. Он достоин признания, но не отменяет остальных духовностей. Он задает тон, но вовсе не поглощает. Он главный, но не во всем. Так, судя по всему, думали многие современники.
У нас нет записей языческих сказаний и вообще чего-то подобного вплоть до XVIII века. Все, чем мы располагаем, – это взгляд иноверца, сочинения христианских авторов. Хотя даже после просмотра этих свидетельств становится ясно: проникновение православного обряда на протяжении XI века в народную среду оставалось поверхностным и охватывающим только столичные, княжеские центры. Летописец под 1068 годом сетует:
«Вот разве не язычники мы, если во встречу верим? Если кто встретит черноризца, то возвращается, или кабана, или свинью, – разве это не по-язычески? Это по наущению дьявола придерживаются таких примет. Другие же в чихание веруют, которое [на самом деле] бывает на здравие голове. Но дьявол прельщает и этими и иными способами, всякими хитростями отвращая нас от бога: трубами, скоморохами, и гуслями, и русалиями. Видим места игрищ утоптанными, и людей множество на них, так что толкают друг друга, внимая зрелищам, бесом задуманным, а церкви стоят так, что, когда бывает время молитвы, мало их оказывается в церкви. Потому и казни всяческие принимаем от Бога и набеги врагов; по божьему повелению принимаем наказание за грехи наши»[47].
Автор выделяет отдельные явные искушения, противопоставляя их церковной службе. Хотя, конечно, это тоже провокация, поскольку позволяет думать, будто речь о равновеликих явлениях: игре и молитве. «Места игрищ» выступают языческими капищами, а участие в них – бесовский ритуал. Но надо помнить, что никакой религии бесы не создают – они просто противники Христа, и цель их – вредить, а не созидать. Бывают ли заблуждения без бесов? Определенно бывают. За человеческой глупостью или пустой забавой вовсе не обязательно стоят сатанинские происки. Они лишь обеспечивают их возможность. А далее все зависит от человека. И его пастыря.
* * *
После крещения князя Константинопольским патриархом для Руси была учреждена митрополия. Одновременно на Русь были отправлены то ли 4, то ли 6 архиереев. В XI в. известно 8 русских епархий. Кроме Киева епископы вскоре появились в Новгороде, Чернигове, Переяславле (Южном), а также в соседствующих с днепровской столицей Белгороде (в 23 км на Ирпени) и Юрьеве (в 80 км, ныне Белая Церковь). Примерно в середине XI века возникла епархия в Полоцке, хотя епископ там упоминается только в 1105 году. В 70-е годы XI века известно о назначении архиереев во Владимир-Волынский и Ростов.
В Ростове епископ Леонтий немедленно был убит. Сменивший его Исайя упоминается в 1089 году, а следующий – Нестор – прибыл только через 60 лет. В 1160-м в Ростове сгорела дубовая церковь, которая признавалась кафедральной, и летописец отметил, что стояла она чуть ли не 168 лет, то есть с 992 года. Также припоминают, что до Леонтия там было еще два епископа, но оба сбежали из-за «злобы языческой». В итоге храм был, но пустовал десятилетиями. И кажется, что вплоть до середины XII века глубоких корней христианство на этой земле не пустило. Только строительные программы и внимание властей в последние годы Юрия Долгорукого и при Андрее Боголюбском переломили ситуацию.
Лишь в начале XII века возникла епархия в Смоленске – учредительная грамота датирована 1136 годом. Примерно в эти годы, скорее всего, появился епископ в Перемышле, а также в Турове. В середине века – в Галиче на Днестре. В самом конце XII или в начале XIII века был епископ в Рязани, к которой тянулся Муром. Только в начале XIII века выделилась епархия во Владимире-Залесском. В 1220-е годы оформились кафедры в Угровске и Луцке.
Глухие свидетельства источников позволяют утверждать, что в XI веке на Руси церковная организация была распространена на небольшом участке Среднего Поднепровья между Черниговом, Переяславлем и Киевом с пригородами Юрьевом и Белгородом. Очаги христианства были еще в Новгороде, Полоцке и Владимире-Волынском. В Ростове развитие проповеди столкнулось с сопротивлением местной общины.
Далее Церковь шла рука об руку с укреплением княжеской власти. Особые усилия к этому приложил Владимир Мономах, который активно строил храмы, и не только в старых городских центрах. Он возводил новые крепости, центром которых обязательно становился собор. Так было со Смоленском и Владимиром-Залесским. Позднее той же схемы придерживался Юрий Долгорукий при строительстве Переяславля-Залесского, Дмитрова и других городов на северо-востоке Руси – будущем центре Московского государства.
Более того, Мономах прилагал особые усилия для повышения престижа Церкви: он стал развивать каменное строительство в отдаленных от Поднепровья центрах. В начале XI века первые каменные храмы возникли в Киеве и Чернигове, где их возводили греческие мастера. Потом Ярослав Мудрый продолжил эту программу – были возведены Софийские соборы в Новгороде и Полоцке. В Полоцке в течение столетия это был единственный каменный храм. В Новгороде каменное строительство продолжилось только в начале XII века при Мономахе. Он же финансировал строительство первых каменных соборов в Суздале и Смоленске.
Понятно, что в лесистой русской средней полосе каменный храм – излишество. Применение кирпича – исключительный изыск, объяснимый лишь статусом. Обилие леса позволяло быстро и дешево строить огромные сооружения из дерева. Кирпич (плинфа) требовал привлечения дорогостоящих зарубежных специалистов, освоения неизвестной техники и вызывал опасения за надежность конструкции – многие храмы вскоре падали или частично разрушались, а новые возводили с перестраховкой прочности. Но храм – престиж князя, на него не скупились.
Еще летописный рассказ «Повести временных лет» о выборе веры князем Владимиром передавал главное отличие православия – величественный обряд. Именно внешняя сторона богослужения стала определяющим критерием в выборе. Она же оставалась основной особенностью и средством привлечения адептов. В глубины теологии не погружались не только рядовые прихожане, но зачастую сами церковнослужители. Еще в середине XII века русские епископы продолжали спорить, например, о необходимости соблюдения поста в среду и в пятницу, возводя анафемы на несогласных. Обряд оставался главным в определении отношения к Западной Церкви – споры развивались вокруг вопроса о причащении опресноками, а вовсе не о соисхождении Святого духа (Filioque).
Церковь была институтом в рамках государственной власти, далекой от бытовой повседневности. Судя по всему, формального участия в обрядах было достаточно, чтобы считаться лояльным. Характерно, что мы почти не располагаем памятниками домонгольского периода, связанными с деятельностью приходского духовенства. Все тексты восходят к монахам, включая архиереев. Из проповедей мирянам известны только пара текстов Феодосия (ум. 1074 г.), игумена Печерского монастыря, и Кирилла, епископа Туровского (сер. XII в.).
Археологи свидетельствуют, что в XI веке в русских землях почти повсеместно произошла смена похоронного обряда. Принято считать, что христианству соответствует трупоположение – ингумация. Хотя канонически это никак не обосновано. Поскольку труп без души, которая уже отлетела, любое его уничтожение допустимо, включая сожжение и поедание дикими зверями. Но случаи ингумации встречаются задолго до 988 г., а курганы сохраняются гораздо позже этой даты – в XIII в. При этом известны даже христианские курганные могильники. Тем не менее рубеж XI века, в общем, заметен. Хотя захоронения продолжают сопровождать инвентарем и другими личными вещами. Кажется, это принято до сих пор.
Та же ситуация с религиозными атрибутами. Традиция ношения нательных крестов стала обязательной лишь в XVII веке. Прежде она не возбранялась, но и не поощрялась. Более того, крестик воспринимался как украшение также у язычников, его использовали даже дикие скандинавы. Он не служил доказательством конфессиональной принадлежности. Исключение составляли специфически оформленные – с распятием, с надписями, энколпионы – кресты, состоящие из створок, в которые закладывались священные предметы, мощи, ладан. Их тоже могли украсть и использовать в качестве простого украшения, но все же это был особый религиозный предмет. Находки именно таких вещей свидетельствуют о распространении христианства. Можно сказать, что в крупных городах Руси оно пустило корни уже в XI веке, хотя неравномерно. Это точно Новгород и среднее Поднепровье, но стоит археологам «уйти» чуть в сторону – и находок в разы меньше, например в Пскове.
* * *
Монахи-летописцы не уделяли язычеству много внимания. Это явление, по их убеждению, давно должно было сойти со страниц истории, его должна была заменить Святая Русь. Но резонансные вторжения бесов старались отмечать. Ведь чем дальше от Киева, тем сложнее развивалась проповедь. Особенно острые конфликты случались в Ростово-Суздальской земле. Сатана отступал, но огрызался. Кажется, здесь, в зоне контакта с финно-угорскими племенами, магическая культура была более развита и агрессивна. Возможно, что за этим скрывалась в целом оппозиция княжеской власти. Тем не менее все известные сюжеты на эту тему содержат религиозную подоплеку.
В 1024 году «появились волхвы в Суздале; по дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали старую чадь, говоря, что они держат запасы». События были связаны с неурожаем: «был мятеж великий и голод по всей той стране; и пошли по Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили». На произошедшее отреагировал князь Ярослав Мудрый, бывший тогда в Новгороде: «Ярослав же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль; захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: «Бог за грехи посылает на какую-либо страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, а человек же ничего не ведает»[48].
Оценку события исследователи производят, исходя из определения понятия «старая чадь». То ли речь идет о знати, «старейшинах» или «старостах», то ли просто о стариках. Первых могли убить, исходя из социального конфликта, а вторых – в соответствии с представлениями, что старики свое пожили и пора им на покой, поскольку не прокормить. Судя по тому, что в дело вмешался князь, речь идет все же о знати, причем зависимой от правителя, может быть, даже назначаемой. Выходит, что волхвы пытались навести порядок в структурах власти, исходя из своих традиционных представлений: убеждения в том, что вождь ответственен за благополучие общины. Ясно, что в то время никакой церковной организации в Суздале не было, а религия плотно соотносилась с политикой. Ярослав казнил волхвов не за веру, а за убийство чиновников, хотя уста летописца сопроводили расправу христианским поучением.
Несколько других случаев описаны в летописи 1071 годом. Эти разновременные рассказы о бесовских наваждениях датируются лишь условно. Во-первых, волхв явился в Киеве и стал предсказывать всякие нелепицы, ссылаясь на «пять богов»: дескать «на пятый год Днепр потечет вспять и земли начнут перемещаться, что Греческая земля станет на место Русской земли, а Русская на месте Греческой, и прочие земли переместятся». Некоторые насмехались («Бес тобою играет на погибель тебе»), другие дивились, а потом он «в одну из ночей пропал без вести».
Обычно главное внимание тут уделяют цифре пять и даже пытаются идентифицировать этих «пять богов». По летописному известию 980 г. известно шесть языческих идолов: Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Мокошь. Еще в другом тексте зафиксирован Волос (Велес). В итоге получается, что пантеон состоит из шести или семи божеств. Поскольку рассматриваемые известия относятся к ПВЛ, то убедительной считается идентификация в согласии со статьей 980 г., где Хорс и Даждьбог – это сдвоенное имя одного и того же. «Пять богов» – это Перун, Хорс-Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Мокошь. Впрочем, любые операции с «землей» без участия Велеса вряд ли возможны.
Стоит помнить, что пять – это гармоническое число, которое многократно использовалось мыслителями. Уже Аристотель выделял во вселенной пять элементов: земля, вода, воздух, огонь и эфир. Теперь иногда на место эфира ставят человека или даже образную любовь. Этому принципу следовали позднейшие натурфилософы, наделяя смыслами углы пентаграммы. Также нельзя не упомянуть «Пятикнижье Моисеево», пять книг Библии, которые в иудаизме называют Тора. Но в контексте ситуации на Руси тех лет, скорее всего, автор зафиксировал эсхатологическое предсказание, выраженное столь необычно.
Возможно также, что речь о пяти планетах, имена которых были уже тогда известны на Руси по переводам греческих хроник (Хронике Георгия Амартола и др.): Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий. Сюда добавляли Солнце с Луною, но для них не было отдельных имен. Анализ их сочетания воплощал modus operandi для средневековых астрологов. Впрочем, сложно вообразить такую композицию планет, чтоб они указали на смену Греции на Русь и наоборот. Либо летописец не вполне точно передал суть предсказания.
Не исключено, что эти пророчества отразились в известии о социальном конфликте 1068–1069 гг., когда великий князь Изяслав был разгромлен половцами, бежал в Польшу, а киевляне посадили у себя князя Всеслава, того самого волхва и оборотня. Ранее Всеслав пытался захватить Новгород, но был разгромлен. В ходе мирных переговоров его захватил Изяслав, нарушив крестное целование. Полоцкий князь с сыновьями был посажен в темницу, откуда его выпустили горожане после бегства Изяслава. И утвердился он на княжении в Киеве. В этом летописец резонно видит результат божественного провидения: «Этим Бог явил силу креста, потому что Изяслав целовал крест Всеславу, а потом схватил его: из-за того и навел Бог поганых. Всеслава же явно избавил крест честной! Ибо в день Воздвижения Всеслав, вздохнув, сказал: “О крест честной! Так как верил я в тебя, ты и избавил меня от этой темницы”. Бог же показал силу креста в поучение земле Русской, чтобы не преступали честного креста, целовав его; если же преступит кто, то и здесь, на земле, примет казнь и в будущем веке казнь вечную. Ибо велика сила крестная: крестом бывают побеждаемы силы бесовские, крест князьям в сражениях помогает, крестом охраняемы в битвах, верующие люди побеждают супостатов, крест же быстро избавляет от напастей призывающих его с верою. Ничего не боятся бесы, только креста. Если бывают от бесов видения, то, осенив лицо крестом, их отгоняют»[49].
Характерно, что князь, искушенный в колдовстве, признает силу креста в противостоянии бесам. И настаивает, что освобожден он был силой Христовой, а не волхвованием. В первый век после крещения христианство было только на пути к глубинам русского самосознания. Оно еще не победило повсеместно. Правители отдавали ему должное, но учитывали языческие практики. И подобный дуализм смущал тогда только монахов.
Изяслав в союзе с поляками выступил на Киев, желая вернуть себе стол. Всеслав не стал сопротивляться и бежал. Киевляне оказались в замешательстве и ожидали репрессий, если польское войско войдет в город. Они обратились за помощью к другим Ярославичам, пытаясь усмирить гневливого изгнанника. Если князья не вмешаются, грозились они, им «придется поджечь город свой и уйти в Греческую землю»[50]. В условиях политической турбулентности горожане волновались за свою судьбу и испытывали потребность в пророках. Вполне возможно, что волхв явился примерно в это время.
Из сообщения можно понять, что никаких гонений чародей не претерпел – проповедовал свои бредни безнаказанно. Поскольку он не вступал в конфликт с княжеской властью, то проповедям никто не мешал. Невежественные киевляне пострадали за свою доверчивость позднейшими ненастьями: «Бесы ведь, подстрекая людей, во зло их вводят, а потом насмехаются, ввергнув их в погибель смертную», – резюмировал летописец[51]. Бесы направляли руку предателя Блуда, погубившего князя Ярополка[52]. Как и убийц Бориса и Глеба во главе со Святополком[53]. Все они в ад сошли безвременно.
* * *
Другой случай, описанный в ПВЛ под 1071 г. в Ростовской земле, опять, как в 1024 году, связан с неурожаем. Явились из Ярославля два кудесника, заявив, что «мы знаем, кто урожай держит»: «И отправились они по Волге и куда ни придут в погост, тут же называли знатных жен, говоря, что та жито удерживает, а та – мед, а та – рыбу, а та – меха. И приводили к ним сестер своих, матерей и жен своих. Волхвы же, мороча людей, прорезали за плечами и вынимали оттуда либо жито, либо рыбу, либо белку и убивали многих жен, а имущество их забирали себе». Так пришли они на Белоозеро, а набралось с ними сподвижников человек 300. И случился в тех краях Ян Вышатич, дружинник князя Святослава Ярославича, собиравший дань. От него летописец и узнал о произошедшем. Белозерцы сообщили Яну о присутствии по соседству тех шаманов, которые «убили уже много женщин по Волге и по Шексне и пришли сюда». Ян первым делом осведомился: «Чьи они смерды?» Когда узнал, что его князя, то тут же потребовал их к себе: «Выдайте мне волхвов, потому что смерды они мои и моего князя». Те отказались. Тогда Ян собрал отряд из 12 отроков и попытался пробиться к их лагерю.
«Янь же пошел сам без оружия, и сказали ему отроки его: “Не ходи без оружия, осрамят тебя”. Он же велел взять оружие отрокам и с двенадцатью отроками пошел к ним к лесу».
Отряд колдунов выстроился к бою против чиновника.
«Янь шел с топориком, и выступили от них три мужа, подошли к Яню, говоря ему: “Видишь, что идешь на смерть, не ходи”. Янь же приказал убить их и пошел к оставшимся. Они же кинулись на Яня, и один из них замахнулся в Яня топором. Янь же, оборотив топор, ударил того обухом и приказал отрокам рубить их. Они же бежали в лес, убив тут Янева попа».
Ян атаковал первым. Трое из язычников погибли. Остальные отступили в лес. Был убит сопровождавший княжеских служащих священник. Преследовать чародеев Ян не стал и вернулся в Белоозеро. Там он сразу предъявил белозерцам ультиматум: «Если не схватите этих волхвов, то не уйду от вас целый год». Содержание княжеского тиуна, как известно, тяжкое бремя для общины. Волхвов немедленно схватили и выдали. Ян начал допрос: «Чего ради погубили столько людей?» Те отвечали: «Они удерживают урожай, и если истребим, перебьем их, будет изобилие; если же хочешь, мы перед тобою вынем из них жито, или рыбу, или что другое». Христианин парировал, что «сотворен богом человек из праха, составлен из костей и жил кровяных, нет в нем больше ничего, а будущего и причин неурожаев знать он не может; то один только бог ведает». У кудесников был свой взгляд. В пересказе Яна их ответ звучал так: «Мы знаем, как человек был сотворен. Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, – в землю идет тело, а душа к богу». Далее выяснилось, что веруют волхвы в Антихриста, который «сидит в бездне», то есть пребывают в бесовском искусе:
«Сказал им Янь: “Поистине прельстил вас бес. Какому Богу веруете?” Те же ответили: “Антихристу!” Он же сказал им: “Где же он?” Они же сказали: “Сидит в бездне”».
На это Ян велеречиво парировал – в пересказе летописца:
«Какой же это бог, коли сидит в бездне? Это бес, а Бог восседает на небесах, на престоле, славимый ангелами, которые предстоят ему со страхом и не могут на него взглянуть. Один из ангелов был свергнут – тот, кого вы называете антихристом; за высокомерие свое и низвергнут был с небес и теперь в бездне, как вы и говорите; ожидает он, когда сойдет с неба Бог и этого антихриста свяжет узами и посадит в бездну, схватив его, в огонь вечный вместе со слугами его и теми, кто в него верует. Вам же и здесь принять муку от меня, а после смерти – там».
А колдуны знали закон:
«Говорят нам боги: не можешь нам сделать ничего! Предстать нам перед Святославом, а ты не можешь нам ничего сделать».
Ян вознегодовал и приказал бить волхвов, дергать их за бороды, оскорблять, но убить не решился. Во время этих унижений спросил их: «Что же вам теперь молвят боги?» Они, уверенные в своих правах, ответили: «Стоять нам перед Святославом».
Ян заткнул им рот кляпом, привязал к мачте своей ладьи и отправился вниз по Шексне – вероятно, туда, где их мог допросить Святослав. По пути то ли христианское рвение возобладало, то ли кудесники действительно насолили княжьему человеку. В устье Шексны – район современного Рыбинска – Ян опять заговорил с ними:
«Остановились на устье Шексны, и сказал им Янь: “Что же вам теперь ваши боги молвят?” Они же сказали: “Так нам боги молвят: не быть нам живым от тебя”. И сказал им Янь: “Вот это вам правду поведали боги ваши”. Волхвы же ответили: “Если нас пустишь, много тебе добра будет; если же нас погубишь, много печали примешь и зла”. Он же сказал им: «Если вас пущу, то зло мне будет от Бога, если же вас погублю, то будет мне от Бога награда”».
В итоге Ян придумал, как избавиться от чародеев, не нарушив правды. Среди гребцов ладьи, возможно, специально оказались родственники тех жен, которых расчленили волхвы. Ян просто разрешил им отомстить.
«И сказал Янь гребцам: “У кого из вас кто из родни убит ими?” Они же ответили: “У меня мать, у того сестра, у иного дочь”. Он же сказал им: “Мстите за своих”».
Они схватили кудесников, избили и повесили на прибрежном дубе. Тоже не убили. На другую ночь волхвов разодрал медведь: «взобрался, загрыз и съел кудесников».
Книжник резюмировал: «И так погибли они по наущению бесовскому, о других зная и им гадая, а своей гибели не предвидев. Если бы знали, то не пришли бы на место это, где их схватили; а когда были схвачены, то зачем говорили: “Не умереть нам”, в то время, когда Янь уже задумал убить их? Но это и есть бесовское наущение: бесы ведь не знают мыслей человека, а только влагают помыслы в человека, тайного не ведая. Бог один знает помыслы человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и безобразны видом»[54].
Во-первых, за оправдывающим расправу религиозным контекстом проступает правовая норма, согласно которой без княжьего суда человека казнить нельзя – разве только в режиме кровной мести. Язычник обладал ровно теми же правами, что любой христианин. По крайней мере, в Ростовской глуши в конце XI века.
Во-вторых, летописец подробно разъясняет метод, которым Ян выявил бесовское наущение. Ведь они предсказывали, но ошибались. Когда их били в Белозерске, но не убили, Ян уже задумал лишить их жизни, а они не знали – боги им не подсказали, обманул их дьявол. Догадались чародеи о грядущей смерти, только когда ладью через несколько дней задержали в устье Шексны – в 300 км от Белоозера. Так определяется колдовская ложь.
Судя по всему, этим же Ян убедил своих гребцов, что перед ними шарлатаны. Ведь те прежде сами своих жен и матерей приводили на экзекуцию, а теперь вдруг решили экзекуторов убить. Ритуал не помог, жита больше не стало, а сами волхвы оказались неспособны противостоять планам чиновника, в чем были уличены.
Наконец, само кредо волхвов выглядит неожиданно. Они заявили, что веруют в Антихриста, который в бездне обитает. И речь не о мессии, а об оппозиции Христа. И это не человек, а земной повелитель. Можно понять, что Антихрист – это Сатана, что уж совсем необычно. Волхвы выдают вовсе не языческую, а дуалистическую – богомильскую – концепцию генезиса, согласно которой «сотворил дьявол человека, а бог душу в него вложил». К этому добавляется история о возникновении человека из «ветошки», которой, вспотев, бог отерся в бане. П. И. Мельников-Печерский в «Очерках мордвы», опубликованных в 1867 г., упомянул о существовании похожего мордовского мифа. Сотворить гоминида взялись два божества – Чам-Пас и Шайтан, – которых порой интерпретируют противостоящими добром и злом, хотя Шайтан (черт) в данном случае – явно заимствованное у мусульман имя. Этот второй бог-злодей вынужден был украсть у первого полотенце, чтобы, протерев им эмбрион, придать ему образ и себеподобие. Кроме того, божества договорились о «разделе» человека после смерти: душа – на небо к Чам-Пасу, а тело – под землю к Шайтану[55].
На мордовском материале Мельников обнаружил и традицию, напоминающую ритуал извлечения снеди из спины женщин. Во время подготовки к языческим жертвоприношениям особые выборные обходили селян и собирали съедобные продукты. Этот обряд называли «сбор на моляны». Он предполагал, что, когда выборные приходят в дом, их встречает стоя спиной к входу обнаженная по пояс хозяйка, перебросив через плечо мешочки с едой (мука, мед, яйца и проч.). Сборщики отрезали мешочки, укалывая женщину ритуальным ножом в плечо и спину[56].
Эти наблюдения позволяли некоторым специалистам предположить, что волхвы, описанные в 1071 г., были близки финно-угорскому изводу язычества, отразившемуся в позднейших мордовских сказаниях. Но легенды и основанные на них ритуалы, скорее всего, не носили этнического характера и мигрировали по другим законам. У зороастрийцев, например, тоже есть сказка об орошении по2том или даже рождении из пота Творца (Ормузда) первочеловека Гайомарта для противостояния Сатане (Ахриману)[57]. Магические функции пота учитывались в мистических ритуалах, обнаруженных этнографами на русском материале. Заговор с поминанием «Сатаны Сатановича» предполагал присутствие хлеба, на который выжимали пот, собранный в бане ветошью[58]. Бес примитивен и прост, набор его искусов ограничен. Совсем нередко он действует по шаблону, а кроме того, заставляет нас размышлять о материальных связях в то время, когда эти связи духовные. Волхвы из летописи вовсе не обязательно мордвины или даже обобщенно финно-угорского происхождения. Вообще-то, про них сказано, что они «из Ярославля», а выдают их «белозерцы». И говорят они на одном языке с Яном Вышатичем. Нет никаких оснований предполагать их этническую и культурную обособленность. Наоборот, они знают свои права, требуют суда князя и вообще уверены в себе. Это чиновник вынужден хитрить, чтоб усмирить разгулявшихся бесов. Книжник зафиксировал его подвиг. В конце концов он не допустил опасных колдунов к князю, на которого они рассчитывали произвести впечатление. Святослав, кстати, вскоре, в 1076 г. погиб – в расцвете сил в 49 лет «от резания желвака», как записал летописец. Какой-то знахарь сделал ему неудачную операцию. Опять бесы вмешались?
Историю про волхвов мы узнаем из пересказа монаха-христианина, который слышал ее от воеводы Яна, который пытался оправдать свои действия. Поэтому нельзя быть совершенно уверенными, что вера волхвов описана точно. Из имеющихся данных получается, что два манихея-проповедника изобличали ведьм, испортивших урожай. Они определяли их из числа «знатных» – в летописи сказано «лучших жен». Высказывалось мнение, что речь про пожилых, старых. Однако, скорее всего, речь о статусе, а не возрасте. И вовсе не обязательно, чтоб в каждом поселении их было много, – вполне достаточно и логично выделить одну. Ведьму приводили к волхвам, которые извлекали из нее сокрытое – из того места на теле, которое нельзя было счесть срамным или недостойным, – «за плечами». Там обнаруживалось «жито» (зерно? мука?), рыба или белка. Напоминает, конечно, фокусы хилеров, но со смертельным исходом. Сказано, что потом «многих жен убивали, а имущество их забирали себе», то есть ритуал был только началом акции, которая завершалась смертью и ограблением. Это уже вполне языческие представления, что виновника народных бедствий нужно обобрать, а его имущество разделить и раздать. В данном случае, однако, все присвоили волхвы, что совсем не характерно для служителей культа. Скорее всего, где-то в этих свидетельствах содержится неточность, поскольку сочетаются слишком нехарактерные действия. Но для летописца все ясно, и он резюмирует:
«Такова-то бесовская сила, и обличие их, и слабость. Тем-то они и прельщают людей, что велят им рассказывать видения, являющиеся им, нетвердым в вере, одним во сне, а другим в наваждении, и так волхвуют научением бесовским. Больше же всего через жен бесовские волхвования бывают, ибо искони бес женщину прельстил, она же мужчину, потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством, и отравою, и иными бесовскими кознями. Но и мужчины, нестойкие в вере, бывают прельщаемы бесами. Как это было и в прежние времена, при апостолах был Симон Волхв, который заставлял волшебством собак говорить по-человечески и сам оборачивался то старым, то молодым или кого-нибудь превращал в иной образ, в наваждении. Так творили Ананий и Мамврий: они волхвованием чудеса творили, противоборствуя Моисею, но вскоре уже ничего не могли сделать, равное ему; так и Куноп напускал наваждение бесовское, будто по водам ходит, и иные наваждения делал, бесом прельщаем, на погибель себе и другим».
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽