Осколки недоброго века
Текст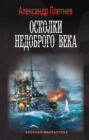


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 21,90 ₽
- Объем: 320 стр. 1 иллюстрация
- Жанр: боевая фантастика, историческая фантастика, попаданцы
”…Я штурвал на себя… я штурвал на себя!” – постоянно повторял он в горячке уже совсем плохой.
Командир решил не упоминать эти факты в записке, оставленной в самолёте, сказав, что предоставит начальству отдельный рапорт. Поверят в Москве или нет, это вопрос будущего, так как неведомую крылатую тварь, что и птицей не назовёшь, вынуждены были оставить во льдах, взяв лишь образцы зубов и часть костей, завернув всё в прорезиненную ткань. Но и без того вонь от неё стояла жуткая. Тем более что Годовиков, осматривая фрагменты твари, порезался и подцепил какую-то чесотку. Дрянь оказалась заразной.
Всё остальное, что смогли, собрали, сложив в железном ящике, засунув его под фюзеляж.
…Мы здесь, на месте падения, уже неделю. Три дня бушевал ураган. Наружу не выходили.
19 августа похоронили Колю Кастанаева, рядом с Левченко.
20 августа. Сегодня решили, что идём. Надеяться, что кто-то ответит в эфире, уже бессмысленно. Всё давно приготовили: нарты, лыжи, припасы, оружие. Ничего лишнего. Я даже решил оставить личные вещи. Главное выбраться».
– Всё, – закончил Шпаковский, – намеренно ли он или по запарке позабыл свой дневник, сейчас уж не скажешь. А вот на обратной стороне карандашом набросок, как я понял, он пытался зарисовать упоминаемую зверюгу. Художник из него не ахти, но посмотри – ничего не напоминает? Длинная зубастая пасть. Тут и размер приблизительно дан. Похоже, что крыло… часть крыла без перьев будто кожистое, как у нетопыря, но…
– Твою ж мать! – выдавил Чертов. – Птеродактиль?!
* * *
Беспилотники в экономичном режиме барражировали на бреющем целый день. Всё ещё надеялись словить отголосок деградировавшего маяка.
У монитора посменно дежурили операторы, приглядываясь к каждой подозрительной возвышенности – не засыпанный ли это снегом фюзеляж?
Пару раз на лёд спускали снегоходы, и досмотровые партии срывались в рыке движков и вихрях снега.
Возвращались ни с чем.
– И чего мы так уцепились? – ворчал капитан (кто-то ему вторил из начальников служб, недоумевали в экипаже). – Как пришло, так и ушло. Пора двигать дальше. Добро не наше, да и чёрт с ним.
– Не скажи, – тянул Шпаковский, – в нас человеках где-то сидит древний инстинкт, заложенный первобытным собирательством. По грибы когда-нибудь ходил? Помнишь тот азарт – отыскать, непременно добыть! И радость от находки, а ведь полная халява по логике!
А тут уже ранее найденное, но припрятанное. Это уже почитай наше! Тем более жаба душит упускать добычу, когда представишь, какую ценность представляют наглядные образцы авиатехнологий, за которые ныне любое государство отслюнявило бы золотом и в ассигнациях.
Чертов вскидывал брови: «чего это Вадим разошёлся – о барышах заговорил?» И краем глаза зацепив внемлющего наместника, находил ответ и мотивацию: «ага, пусть знает, Николаше на оценку доложит!»
– Тем более что это не наши из компов, пусть и не абстрактные чертежи, – прибавил аргументов помощник, – это дюрале-железо можно по винтику разобрать, руками щупать, каждый шов сварки, если она там вообще была применена.
Но, конечно, всё это были успокаивающие отговорки. Главный интерес лежал где-то в железном ящике под фюзеляжем, если записки радиста не врут.
Имела ли находка доисторической рептилии практическое значение? Конечно же нет.
Но являлась просто сумасшедшим открытием, наряду с самим фактом переноса во времени ледокола, самолёта и ещё чёрт знает чего!
* * *
К затянувшимся сумеркам поиск прекратили.
После ужина капитан уж хотел было объявить, что всё – «снимаемся и уходим», однако коллегиально решили повременить.
Идею подкинули инженеры «Сокола» – отыскать артефакт способом дистанционного магнитного обнаружения, пообещав к завтрему что-то рабочее подобное ДМА сварганить[17].
– Это реально? В смысле у них выйдет что-то путное?
– А почему нет? Схема простая, только с беспилотника не получится. Придётся вертолётом на тросе таскать, так как детектор крупногабаритный, да и свесить пониже надо будет, чтобы корпус носителя не искажал работу прибора.
* * *
Утро началось с завываний раскручивающейся «вертушки». Пока прогоняли двигатели машины, энтузиасты тестировали свою халтуру, дыша морозом:
– Магнитодетектор вроде бы работает, но надо проверить подальше от ледокола.
Чертов из окна своей каюты наблюдал, как «Миль» плавно удалился на полкилометра, спустив на тонкой нити троса грузилово аппаратуры.
Двинул галсами по кругу.
Время пошло. Точней – тянулось.
Час. Два.
Пошёл третий.
С полными баками Ми-8 мог кружить над ледяной пустыней хоть до конца дня. Короткого… бледного полярного дня.
И зная, что его тут же известят, если что-то будет обнаружено, Андрей Анатольевич, тем не менее, регулярно дозванивался до вахты, интересуясь «как идут дела?». И всё равно нетерпеливо досадуя, медленно подзакипал:
«Время идёт, ресурс вертолёта тратим, а результата как не было, так и нет»!
В конце концов, торчать в конуре своей каюты уже порядком надоело и, невзирая на строгий карантин врача, на всякий случай, накинув тёплые вещи, недовольный капитан решил прекратить бесперспективные поиски.
На мостике по случаю поисковых работ народу оказалось больше, чем в обычную вахту:
– О! Все собрались! Здравствуйте, господа-товарищи. Что тут у нас?
– Да вот… – неопределённо промычал кто-то.
Отыскав глазами старпома, Чертов распорядился:
– Всё. Возвращайте «вертушку», заканчиваем эту бодягу.
И увидев на лицах некоторых кислое неодобрение, от того раздражаясь, уже категорически отрезал:
– Всё я сказал! Умерло так умерло! Дай сигарету, – это уже Шпаковскому, – пойдём!
– Тебе ж Кац запретил, какого ты опять на мороз ломишься. Нахватаешься снежинок на гланды… э-эх, на, пошли!
Такого разве переупрямишь.
– Дурни мы, конечно! – Злой и оправдывающийся помощник чиркал предательской зажигалкой. – Понадеялись на радиомаяк, а надо было тогда повозиться пару часов и антенну-флагшток на растяжках вколотить. Или вообще немедля подходить и грузить на борт этот клятый самолёт и всё остальное. Подумаешь, сутки убили бы.
– А эскадру за сутки впаяло бы во льды, а то и вовсе сдавило! – огрызнулся кэп. – Вот тогда похерили бы главную задачу. А ещё представь – подняли бы на кран фюзеляж, отыскали тот ящик – вскрыли и подцепили бы эпидемию доисторической заразы по всему экипажу.
– Не факт. Он там о порезе пишет, то бишь инфекция не воздушно-капельная. Да ты представь, – Шпаковского понесло, – эта находка для науки невероятна! Это генетический материал для клонирования и…
– Это в первую очередь говорит о том, что провалы-порталы во времени более сложные и нестабильные штуки. Получается, что самолёт сначала зашвырнуло куда-то в юрский период, а потом сюда. Офигеть! Но нам от этого по большому счёту ни холодно, ни жарко! И вообще… ищем, ищем, а вдруг он вообще назад во времени провалился?
Оставив оторопелого от такой версии собеседника, Андрей Анатольевич перешёл на другой борт, выискивая над белым ледяным пространством точку вертолёта.
Из двери высунулся довольной рожей помощник вахтенного:
– С «вертушки» сообщили – что-то нащупали! По-моему, наш клиент!
* * *
Дело нашлось всем, особенно на раскопках от снега.
Барометр предвещал новый снегопад и как бы не метель. Упала и температура при усилившемся ветре. Поэтому работали быстро и почти грубо – подошли ледоколом поближе, заводя тросы, подтаскивая части самолёта лебёдками и уж потом поднимая стрелами на борт.
Крупный габарит – фюзеляж, крылья – оставляли на кормовой площадке, закрепляя по штормовому, с расчётом, чтоб ничего не мешало Ми-8 совершать взлёт-посадку. Двигатели и груз переносили в вертолётный ангар. Отыскали и тот самый металлический ящик! Вскрыв, только взглянув, что – да, всё правда, животина весьма-весьма похожа на птеродактиля!
И до поры – со всеми мерами предосторожности – поместили в отдельную холодильную камеру.
Дело затянулось и на следующие сутки до темноты.
Уходили, уже когда основательно мело, завывая – носа наружу не высунуть, авраля последние наружные внешние работы под прожекторами. Да и то задержались – всё никак не могли разыскать недостающие два двигателя, что, вероятно, оторвались при посадке… снова гоняя «вертушку», щупая сугробные залежи радарами ледокола.
Откопали из снега даже отвалившуюся хвостовую часть, что лежала в предсказуемом месте на линии пробега, но движок нашли ещё лишь один. Где затерялся четвёртый (левый крайний, судя по конфигурации падения машины) – осталось вопросом.
«Может, он вообще остался у динозавров. Кто знает…» – самое фантастически-мечтательное, что было высказано на разборе впоследствии.
* * *
Планируя дальнейший маршрут, было обоснованное желание, обогнув Северную Землю высокой широтой, нанести визит на остров Визе – посмотреть, как себя «чувствует» трофейный барк «Харальд»…
– Но тогда скрыть сей факт сомнительного приобретения от наместника не удастся. Зачем нам лишние вопросы, – постановил на совещании капитан.
В Карское море решили выйти тем же проливом Шокальского.
– Полторы сотни миль, – рассчитал штурман, – при похожей ледовой обстановке двое суток. Затем ещё тысяча миль, и мы в Баренцевом море.
– Да, – хмурился Чертов, поглядывая на собравшихся, – надо уже зондировать Петербург. Я так понимаю, у них там конь не валялся… В плане организации нашего приёма в какой-нибудь незаметной и укрытой бухте.
Там, где ветры с Балтики
Могло б показаться – у цели, а значит,
Мы вместе, одно завершенье финала,
Но в путь. Всемогущая сила задачи
Нас снова и в разные стороны гнала.
Пыхтя, источая пар и клубы дыма… другие совершенно специфические звуки и запахи, прощально отгудев, состав мягко стронулся – Финляндский вокзал медленно поплыл мимо, уходя.
В голове прокручивалось всё, что было надёргано воспоминаниями сумятицы последних дней. Всё, что навалилось будто разом:
…начавшиеся революционные выступления;
…кардинальные и ключевые события войны на Дальнем Востоке;
…обсуждение в самой что ни на есть высшей инстанции (лично с монархом) назревающих неизбежных социальных изменений;
…вариативности версий политических прогнозов, вплоть до учёта будущей мировой войны;
…и военные, и промышленно-экономические вопросы;
…и собственный неожиданный отъезд на север, в строящийся Романов-на-Мурмане… с по-дурацки задёрганными в связи с этим личными сборами в дорогу.
И вот столица империи, где не особо-то прижился, отпускает, мелькая строениями, растекаясь окраинами в просторы и лесистость.
Впереди неделя с пересадками до Архангельска под перестук и покачивание вагона. Затем по уже наверняка заснеженным трактам на Колу – и новый взгляд на старые места.
Мысли между тем отбежали ещё немного назад, возвращаясь к эпизодам недельной давности.
* * *
Глядя сквозь забрызганное окошко кареты на заурядные виды пригорода, Александр Алфеевич Гладков кутался в тёплую плащ-накидку, брюзжа сам для себя по настроению:
– Осень! И не лучшая её стадия-пора.
Экипаж с эскортом катил по улице Средней Рогатки – накатанная, вполне проезжая дорога, небедные по местным меркам дома, телеграфные и фонарные столбы, редкие прохожие и сравнительно провинциальная тишина[18].
На глаза попалась вывеска «Табакъ», и Александр Алфеевич, вспомнив, что закончилось курево, приоткрыл окошко, дав знак конному есаулу:
– Архипыч, пачку «Лаферм», будь любезен[19].
И вновь откинулся на сиденье, зябко поёжившись и мысленно возвращаясь к погоде:
«Стылая, склоняющая к хандре осень – унылое очарованье, если подмешать немного Пушкина. В этих краях фактически уже зима, что и по календарю – вот-вот… и по погоде – белые мухи уж сидят в этих зависших тучах, готовые сорваться вниз.
Так и хочется напихать в квартиру падшей листвы, соломы всякой и… аки медведь – до самой весны в спячку. Ну, может, будильник на новогодний праздник поставить, хоть по новому, хоть по старому стилю».
Дом на Ружейной так и не стал тем своим обиталищем-берлогой, куда возвращаешься в защищённый и спокойный уют. «Квартируюсь» – именно так бы он характеризовал своё проживание в нём. Может, из-за того, что не привык к таким хоромам – куда ему столько комнат, зевающих пустотой. Пустотой не меблированной, но людской (прислуга не в счёт).
Подумав об этом одиночестве, сразу вспомнилась непритязательная беседа с императором на одном из перекуров.
В Царскосельской резиденции Николай дымил прямо в рабочем кабинете, не уходя, как водится, в библиотеку. Угощал. Не часто, но иногда вот так, в положительном настроении:
– Не угодно ли закурить моих – первоклассный турецкий табак?
И лишь жадно высмолив полпапиросы, заводил разговор:
– Вы столь непоседливы, при вашем-то, простите, возрасте. Будто и не отдыхаете никогда. А как же общечеловеческие радости? Вживаться надобно в наш мир. Отчего бы вам не подыскать женщину? Можно-с даму под стать возрасту – хорошую, добрую…
– Обеспеченную, одостаченную… – усмехался в дым Гладков.
– При желании… и тех материальных средствах, коими вы располагаете, можно и молоденькую, хм… курсистку, что с радостью примет дворянство и беззаботную жизнь подле законного супруга. Сделав вас счастливым в браке.
Прозвучало это на домыслие, дескать: «вот так, как счастлив я», и Александр Алфеевич спешно замаскировал очередным клубом дыма скептическую усмешку: «А всё ли там так хорошо в отношениях Ники и Аликс? Ходят слухи, что охладел немного венценосный к своей венценосной.
Да и правильно бы! Для монарха семья и любовь – это непозволительный груз. Испокон веку мы считали, что женщины служат сопутствующим придатком к нашим мужским взглядам на вещи. Так было, так и есть, если не забывать, что они ведут свою извечную игру, что навязала им сама природа.
А мы? Вот уж действительно – взяв свою девушку за грудь, наслаждаешься иллюзией, что у тебя всё схвачено. В то время, как с женщинами (там, где царят эмоции) никогда нельзя быть до конца ни в чем уверенным. Тем более зная и помня, к чему пришла эта прибабахнутая дамочка в истории с Распутиным. Мда-а. Охладеть-то он охладел, но, по-видимому, немочка потихоньку отвоёвывает свой статус-кво обратно».
– Так что скажете? – подстегнул величество.
– Все определения моего быта упираются в работу. Но ход ваших мыслей, с подачи Евгения Никифоровича, мне понятен.
Упоминание генерал-лейтенанта Ширинкина, начальника секретной службы императорской охраны, немного напрягло самодержца.
– Ну-ка, ну-ка?!
Гладкову сразу подумалось: «А что тут ”ну-ка, ну-ка?” Одомашнить, оправославить непонятных и пугающих пришельцев, а кого и заприсяжить. Да и чёрт бы с ним, на самом деле, коль деваться некуда».
Но ответил с заминкой, подумавши:
– На ледоколе экипаж – сто с лишним здоровых лбов. Мужчины в самом расцвете, так сказать. Сидеть в железной коробке долго, несмотря на весь её комфорт, – чревато. Рано или поздно начнутся нервные, психологические срывы. Лекарство от этого – работа…
– Служба, – подсказал Николай.
– …смена мест, – Гладков даже не моргнул, – просто «берег» – для моряка сойти в увал на берег это ещё та отдушина. И конечно же женщины. Но здесь кроется своя опасность. Постель сближает, мужчины размякают, подпускают слишком близко (ах, как хотелось ляпнуть – «позволяют манипулировать собою»), тут и до разбалтывания «откуда ты и кто ты есть» недалеко.
– Стало быть, вы с Ширинкиным этот щекотливый вопрос также обсуждали?
– Намедни, – слегка потупился Алфеич, подозревая, что немного проболтался – разговор был сугубо экспромтный и приватный, но генерал-лейтенант, без сомнения, должен был доложить царю.
«Видимо, что-то у него не срослось. Как бы император не подумал, что за его спиной делают делишки».
– Посему? – Романов будто нависал своей настойчивостью. – Бордели, пардон? Или агенты в юбках? Насколько знаю, в жандармском отделении подобные гурии имеются. Не в нужном количестве, к сожалению. Кто ещё поедет в северную глухомань?
– Тем не менее для экипажа, помимо размещения и проживания на берегу, следует озаботиться неболтливыми… и желательно добропорядочными девицами.
– Что само по себе противоречит друг другу.
Гладков лишь пожал плечами – император практически точь-в-точь повторил вердиктные слова Ширинкина. Да и почти все остальные незамысловатые варианты… забыв, пожалуй, лишь северных саамских «красавиц».
В общем, иногда в августейшем расписании находились свободные минутки для вот таких, вольного характера бесед. Тот разговор, правда, так пока и закончился ничем.
Немного посветлело. Поселение осталось позади, кавалькада выехала на просёлочный простор. Александр Алфеевич ненадолго отвлёкся на вид из окна и вновь вернулся к перспективам:
«Получается, что такие побочные и второстепенные вопросы в организации работы и обустройства экипажа ”Ямала” на севере могут оказаться самыми проблемными. Потому что приказным порядком их не решить. А если к этим матримониальным узостям (на сто рыл) присовокупить аспекты секретности, задача становится вообще нетривиальной».
Размеренность мыслей прервали громкие голоса, стук копыт, конское ржание и замедление хода. Оказалось – казачий разъезд, остановивший эскорт и экипаж для проверки документов.
– Теперь будут тормозить через каждую версту, – недовольно, но понимая необходимость подобных мер, ворчливо пробормотал Алфеич, доставая портмоне с документами.
Любой пребывающий в окрестности, относящиеся к Царскосельскому дворцовому правлению, был обязан предстать перед сотрудником Регистрационного бюро, дабы подтвердить свою личность.
Гладков имел особый статус, но это не отменяло сверку фотографии на пропуске с предъявителем.
А с началом первых революционных выступлений плотность дозоров и пикетов вокруг загородной резиденции императора увеличили в разы.
* * *
Обеспечение охранного порядка по ведомству Царскосельского дворцового правления вменялось в обязанность коменданта, но лично за безопасность императора отвечал Ширинкин, которому были подчинены пехотная рота, железнодорожный полк, дворцовая полиция, казачьи конвои и недавно созданный Особый отряд охраны.
На самой дворцовой территории (семьдесят гектаров земли) дополнительно несли службу агенты в штатском, парковые зоны сторожили специально обученные собаки, по внешнему периметру располагались усиленные караульные посты и пеше-конные пикеты.
Что характерно, Николай II отнёсся к подобным мерам безопасности (как и к своей лично) немного скептически и почти безразлично. Но возражать не стал.
Охрана при всей своей многочисленности внутри периметра старалась быть недокучливой. И это почти получалось, если привыкнуть к её постоянному «глазу». Днём можно было часто видеть гуляющих царских детей – девочки под присмотром нянек ежедневно выбегали на прогулки. Единственное, что осень быстро изгоняла их, озябнувших, с лужаек и аллей.
Сам Николай совершал свои моционы, как правило, с раннего утра.
Иногда помятый бессонницей Алфеич видел его размытую туманом фигуру в глубине парка. Но бывало, в редкие по октябрю ясные дни государь прогуливался и со своей семьёй, и тогда пышная платьем императрица, присвоив себе локоть монарха, шествовала рядом.
Встречные учтиво раскланивались. Венценосные благосклонно принимали эту учтивость.
Официальную жизнь Царского Села, кроме штата Высочайшего двора, представляли учреждения министерств и уделов, внутренних дел, юстиции, управления землеустройства и прочие.
Столичные и другие имперские чиновники, министры и высокопоставленные военные при необходимости личного доклада или получения инструкций были вынуждены всякий раз проделывать пусть сравнительно недолгий, но со всеми сопутствующими неудобствами путь.
Император принимал, чередуя и совмещая партикулярные платья и генерал-адмиральские мундиры. Меняя в собеседниках не особо милуемого Витте на перспективного Столыпина, выслушивая вещания великих родственников (князей), приглядываясь к новым назначенцам… и к старым – например, вернули на службу С. В. Зубатова, у которого была своя, профессиональная, но, скажем, гибкая метода работы с революционными элементами[20].
Сама революция началась раньше прогнозируемых и предсказанных дат. Объяснялось это скорей всего тем, что опережающие мероприятия охранки, повальные аресты членов антимонархического движения вынудили руководство и представителей революционных партий начать активные выступления до намеченных сроков. Во всех их действиях была видна поспешность, неорганизованность, разрозненность. Но толчок был дан, а дальше, подхваченное пролетариатом, беднотой и другим маргинальным элементом, бурление пошло самотёком… покатилось, как снежный ком.
Но и без того, несмотря на упреждающие и контрмерные действия правоохранительных служб, канцелярии ЕИВ и чиновничьего аппарата, социальная температура, подогреваемая уже известными силами и лицами (далеко не всех удалось нейтрализовать), подошла к порогу кипения, сорвав крышку имперского чайника. Впрочем, в крупных городах и в уже известных ключевых местах этот пар частично удалось стравить. По крайней мере, на начальной стадии у революционеров со всеми их планами по большому счёту вышел «пшик»!
Забастовки рабочих, начинавшиеся, как правило, на территориях заводов, мгновенно купировались войсковым оцеплением, дабы не дать им перекинуться на другие предприятия. По сути, смуту давили в зародыше. Как говорится, praemonitus, praemunitus[21].
Ныне же столичный градоначальник и оберполицмейстер докладывали, что на улицах Петербурга сравнительно спокойно, лишь наблюдается возбуждённая нервозность. По подворотням, то тут, то там собирались кучки людей, тут же локализируемые (порой жёстко) жандармскими и казачьими патрулями. В городе было введено не то чтобы военное положение, но что-то близкое к тому. Войска сидели в казармах по расписанию оперативной готовности, однако улицы были буквально наводнёны шпиками в штатском.
Случалось у хлебных магазинов провокационно возникали «хвосты», но и к такому повороту событий власти подготовились – продуктами столица была обеспечена сверх меры[22].
Однако крестьянская стихия бунтов по многочисленным губернским деревням оказалась необузданной. Несмотря на введённую цензуру, мальчишки-газетчики раскрикивали горячие новости о сожженных помещичьих усадьбах, о рабочих стачках в других городах, забастовках на железной дороге, разогнанных демонстрациях. Волнения и мятежи на время оттеснили все сводки о войне на Дальнем Востоке на вторые и третьи строчки заголовков.
Что, впрочем, не снимало ход боевых действия с основных повесток дня императорской Ставки.
Война, её исход, экономические и социальные противоречия внутри страны, революционная смута, подрывная деятельность японской разведки и опять революция – связь между всеми этими факторами и без того трезво оценивалась умными головами в близком окружении царя, при этом прекрасно осознавалось, что неблагоприятный исход военных действий только обострит непростую ситуацию.
Хотя многие из имперских деятелей в чинах и званиях (за малым исключением) по-прежнему не считали японцев достойным противником. И, очевидно, будут продолжать считать, что не является положительным моментом. Поскольку в реальной истории с треском проигранная русско-японская война заставила пересмотреть многие военные концепции, иначе говоря, учась на ошибках.
В нашем случае откровенных военных катастроф не произошло: не пал Порт-Артур, русская армия не потерпела поражение под Мукденом, не было цусимского разгрома. Сейчас, получая последние сводки, уже и государь не сомневался в общем успехе дела.
Геометрия войны на сухопутном фронте постепенно возвращалась к исходной точке, концентрируясь вокруг Порт-Артура. И хоть ритмика боёв не блистала знаковыми схватками и о генеральном разгромном сражении речи не шло, но со смещением Куропаткина с должности русская армия медленно и неукоснительно теснила японцев. Такая неспешность была обусловлена в том числе и погодными условиями – дыхания зимы в тех краях ещё не ощущалось, но зачастили дожди. А по мере продвижения к Порт-Артуру и сужения фронта ближе к перешейку плотность войск росла, наступление вязло в столкновении больших масс и распутице.
А Петербург подгонял, всё чаще вмешиваясь в оперативные вопросы, требуя наступать… наступать любой ценой, что, возможно, и было правильно, памятуя и сравнивая нынешнее положение с бездарными «куропаткинскими стояниями».
Стессель браво и радостно (как будто это его заслуга) телеграфировал, что уже слышна канонада армии Гриппенберга… скорей выдавая желаемое за действительное.
Окрылённые защитники крепости вновь отбивали Волчьи горы, до этого успев в очередной раз потерять эти позиции (одиннадцатидюймовые осадные орудия противника, конечно, были приведены в негодность).
Обе стороны – что русская, что японская – по обоим фронтам были крайне измотаны, но за какой из сторон окончательно закрепилось общее воодушевление успехами, тут было очевидно.
Более трезвомыслящий и профессиональный Гриппенберг пока воздерживался от победных реляций, глядя на тяжесть боёв и измотанность войск. Генерал подтягивал ближайшие резервы из-под Мукдена, Харбина (здесь далёкие революционные стачки в Хабаровске и ещё где-то там, на «чугунке» пока не сказались).
Понукаемый ставкой, войска не сдерживал… и они катили на инерции, на «ура».
Понимал, что эта инерция долго не продлится.
Японцы об этом не знали… и отступали.
Ну а Николай II, не оглядываясь на то, что некоторые аспекты всё ещё оставались гадательными, уже пожинал лавры, начиная заглядывать за горизонт геополитических раскладов.
* * *
После покушения Гладков, как мы помним, перебрался под защиту в Царское Село, где по личному распоряжению царя эмиссара «Ямала» поселили в одном из благоустроенных помещений Александровского дворца, с личным кабинетом, где он мог принимать заводчиков, инженеров, рассылая по делам приданных ему курьеров и делопроизводителей.
Впрочем, Александр Алфеевич недолго терпел столь неудобную изоляцию, все же настояв на периодических выездах на казённые и другие заводы. Однако режим безопасности всё же старался блюсти, всякий раз возвращаясь, предпочитая, как сам шутил, «столоваться с царской кухни».
Такая «близость к телу», которой наверняка бы позавидовали многие из дворцовой камарильи, имела некоторые плюсы – и без того не самый маленький винтик в механизме империи, пришлый чужак оказался в самом сердце принятия судьбоносных решений, нередко зазываемый для высказывания своего, как бы отстоящего на сто лет вперёд стороннего, мнения, и не только по основной инженерно-производственной части (что особо было любопытно государю).
Другое дело, что мнение это Николаю II не всегда приходилось по вкусу, да и, если быть честным, отношения с монархом у Гладкова заладились не очень. Сказав в дополнение, что «этот мячик они пинали друг в друга», соблюдая натянутое, но деликатное равновесие.
– А вы смелы и весьма опрометчивы, – приватно заводил в один из случаев Романов, – когда высказываетесь о перспективах монархии в России на манер британской.
– Сразу отмечу, что это вариативное и сугубо личное мнение, – включал «заднюю» Алфеич.
– Не боитесь царского гнева?
– Я немного изучал историю. Вы не тот человек, что будет принимать деспотические решения.
– Что уж тут сказать, конституционный манифест о политических и социальных преобразованиях, что был оглашён в вашей истории, мы изволили объявить под давлением деструктивных событий, когда во всеобщую стачку оказалось вовлечено более двух миллионов человек, в том числе парализовав в разгар неудачной войны железнодорожную сеть.
– Как правило, ваше величество, после выигранной войны в России наступает политическая реакция, после проигранной – либеральные преобразования. А как будет теперь? Войну, по всей видимости, выиграем. Но реформы архинеобходимы. Уже сейчас работа государственного аппарата неудовлетворительна. Чиновники нередко профессионально несостоятельны, плохо образованны, поголовно корыстны и крайне консервативны. Буржуазия чванлива, но ради денег готова на все подлости. Народ малограмотен, квалифицированных рабочих, а тем более инженеров не хватает…
– Знаю! – Вскинул руку император. – Вашими стараниями я уж теперь многое знаю! Мне ли не… – он запнулся, скривив гримасу, затем вдруг сменил тон: – Следуя по жизненному пути, люди проживают и переживают своё настоящее в прошлое. Я же вашим появлением будто уже испытал своё будущее. И это уже во мне. И его никуда не деть. Так что всё я понимаю.
Вчера до полуночи одолевал отчёт Государственного совета о положении дел в империи, попутно ломал глаза об экран вашего компьютера. Сравнивая. Выбирая гожие постановления, кои обрели бы форму будущих законов, как и всего военно-политического курса страны. Так что уж поверьте, я стараюсь соответствовать своему предназначению, уповая на Господа и провидение. Ратоборствую.
– А народ… – пренебрежительно пустил дым Романов, – народ в массе сущеглуп, что мы ныне воочию наблюдаем по взбунтовавшимся губерниям. Но прерогатива монарха – сострадание. Посему, несмотря ни на что, долгом совести считаю облегчить народу нашему юдоль. – И не скрывая презрения: – А уж к чему возымели либеральные преобразования – мы уже ведаем чрез меры! Даже у вас там, в вашем сплошь демократизированном веке!.. Бог мой. Да выкиньте из головы свой двадцать первый век и попробуйте взглянуть на окружающую жизнь нашими глазами! Ваша этическая система далеко не в полной адекватности приложима к бытовым и политическим реалиям нашего времени! Вас же, по-моему, и цитирую!
Для вас наша эпоха – прожитая красивая или трагическая история. А для нас… для меня ваше появление видится так: живёшь себе, несёшь бремя, хлопоты-радости, заботы-невзгоды. И вот на голову сваливаются… да сами себе представьте, что к вам прилетают иномиряне с Луны-Марса и ошарашивают: «Так жить нельзя!» Выдавая свои патентованные советы, начиная учить, как правильно! Хотя, признаюсь, рассчитывал, что располагая предвосхищающими зданиями, нынешние революционные волнения будут упреждены. Но, видимо, такова судьба. И поныне отвечаю пред Богом, стоя пред великой развилкой!
Да-с! Прав был батюшка, когда говорил – помню дословно: «Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда и с ним Россия рухнет. Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц».
Основание Думы это начало конца! Я сам своими руками создал губителей моих и губителей державы. Рассадник, возомнивший себя интеллигентами премиум-класса. Политический истеблишмент, воспользовавшийся неразберихой и войной, чтобы перехватить власть, сместив законного правителя.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽